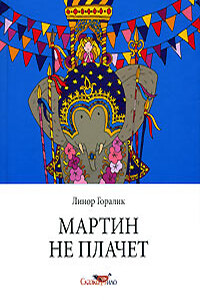Мингалазеди, Баган, Мьянма
Здравствуй.
Птиц не видать, но они слышны. Пять утра, почти прохладно, и мне видно все. То есть буквально все — ну, почти все, почти все храмы Багана, сколько их, больше двух тысяч, потому что это самая высокая площадка, я пришел фотографировать, потом будет плохой свет, яркий, а сейчас все в каком-то прозрачном молоке, в нем облака плавают, как размокший корнфлекс. Как хорошо, всё-таки, что я выкроил себе эти две недели в Бирме за казённые деньги. С другой стороны, они сами виноваты. Дисциплинированность малайзийских властей оказалась выше всяких похвал. Я думал, они мне до второго пришествия будут разрешение на съёмки делать — а нет. Сто долларов — и вот мы уже на месте, бумаги выправлены, заправлены в планшеты космические карты.
Кто бы мог что подумать — в пять утра тут не только я, но еще и две девочки, лет по семнадцать, из той породы, которую один таксист в Москве назвал «сявочками». Говорит, сели на заднем сидении и целуются, такие, понимаешь, еще совсем сявочки, а ведут себя, как последние бляди, им наплевать, что тут человек машину ведет, смотрит в зеркало заднего вида. Сявочки такие: чирикают по-английски, одна совсем как из манга, желтенькая, пухлые губы и полукруглые глаза, и двигается она, знаешь, прыжочками, как воробей. А вторая розоватая и толстенькая, смотрит на первую влюбленными глазами, из тех подружек, которые будут полгода ходить следом и рыдать в подушку, когда у первой появится, наконец, мальчик, стоять под окнами, и вести себя неприлично, пока быстро тающий подростковый такт не закончится у первой совсем, она не выдержит, сорвется: «оставь меня в покое, отъебись». Но вот пока желтенькая смеется, розовенькая счастлива, что они делают тут в пять утра? — желтенькой, видно, захотелось поиграть в фотографа, кто рано встает, тому бог свет дает. Фотографируют они простенькой цифровой Минолтой, у меня такая в сумке, примеряться. Увидели мою камеру, жались и улыбались, потом попросили меня их сфотографировать — я согласился и, пока пытался построить кадр, испытал неловкость за выдвигающийся при взгляде на них объектив. Потом они попросили меня снять их при помощи их собственной мыльницы, и у меня сразу испортилось настроение.
Это поразительное дело, но я не могу снимать людей. Нет, могу, конечно — вот вчера я снимал монахов у Ананда Пахто, плотная толпа, коричневые бритые головы и оранжевая ткань, среди всего этого поблескивают очки, праздник полной луны или что-то в этом роде, не помню, редактор пусть следит. Но они для меня были, как бы сказать — не вполне люди. То есть люди, но объекты, non-persons, такие явления, вроде обезьянок и этих чудовищных Будд, в буквальном смысле слова — лежебоких. А двух сявочек, или застолье, скажем, или свадьбу в белом — это я не могу, ну не могу, не поднимается рука. Я тебе больше того скажу: я и смотреть на эти фотографии не могу, не умею. У меня поэтому дурная слава среди коллег — я редко хожу на выставки, если не пейзаж или не вот как у меня, ну или уж постановочная, которую я совсем терпеть не могу. Но только не люди, ради всего святого. Хотя профессиональное фото еще куда ни шло, оно часто так устроено, как у меня с монахами, а вот любительское — никак.
Помню, рассказывала девушка Алёна, моя бывшая сотрудница, нынче переползшая в «Гео» — «пришла к товарищу тут домой, а Леша мой с ним в один садик ходил, их развело как-то, а потом они опять попали в одну компанию — ну, двенадцать, ну, тринадцать лет назад, молодые все были, а этот Саня всегда с фотиком ходил. И он мне говорит: о, давай я тебе покажу Лешкину фотографию в пять лет! Ну давай, — говорю. И он мне показывает. Ты понимаешь, — говорит Алёна, — я смотрю на нее и чувствую, что я сейчас заплачу. Не потому, что он там хорошенький, или маленький, или еще что-нибудь, а потому что я его вижу — в смысле, нынешнего, вот мужчину, которого я люблю, я в этом мальчике вижу. И мало того, я смотрю и понимаю, что я и наоборот, в Лешке, всегда видела этого ребенка, вот этого самого, я с ним не знакомлюсь сейчас по фотографии, с этим зайчиком маленьким — я его узнаю. Смотрю на него, а у меня начинают слезы литься, и Сашка так меня начинает теребить и говорит: Алён, ты чего, ты чего? А я просто стою и понимаю, что это вот этот пятилетний Лешенька — это мой ребенок, а я его мама, что это единственный ребенок, который у меня есть.