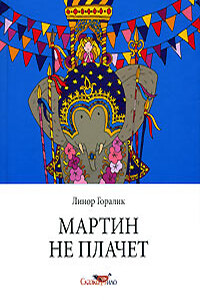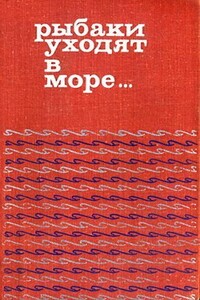Ответить она не успела, потому что Доктор запел Luisiana Red, а потом Hellhound on my trail и Leavin' blues под конец, и как-то так он пел, что у меня, небольшого любителя rout-grass culture и бесконечного нытья на 12 тактов, всё обрывалось и срасталось внутри, а Маша вцепилась в рукав моей ветровки и не отпускала уже, а я, на словах бисовой «Baby, please don't go» изо всех сил стал вглядываться в своего знакомого Cumulus над лесом, пытаясь думать о закатном освещении, мысленно подбирать фильтр и ракурс. Они сошли со сцены окончательно после овации, устроенной клерками и сочувствующими, и тут почти сразу, без перерыва заиграли гимн, а на том берегу начали взрываться петарды и полетели вверх ракеты, O beautiful for heroes, фейерверк. У меня внутри ничего не было кроме раздражения, мелодия мешала мне петь про себя «Baby please don’t go back to New Orleans», но все вокруг, who more than self their country loved, все они как-то подобрались и смотрели теперь тоже в небо, где с шипением и грохотом распускались игрушечные зонтики Оле-Лукойе и букеты полевых цветов, пели все вместе, над водой, над лесом, под облаками, America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea. В воздухе распустился последний букетик, сгорел. Я обернулся к Маше, намереваясь сказать ей, что нам пора выбираться, праздник кончился. И увидел её лицо — совершенно мокрое от слёз. Я побоялся погладить её по щеке. А потом мы стали пробиваться к выходу.
— Прости меня, пожалуйста, — мы уже почти выбрались из толпы, когда она заговорила, — я понимаю, это совершенно идиотская сцена, вообще дикая какая-то. Никто не плачет во время исполнения гимна, это не то чтобы я ненормальная патриотка, которая рыдает при каждом удобном случае. Просто. Я не знаю, как объяснить. Это другая страна, другой город, не мой уже давно. Чужой. Как-то странно чужой, но всё равно. И я. Я там была как все остальные — далеко от дома, очень далеко. В общем, знаешь, я, кажется, поняла одну вещь сегодня. Это, — то есть, то, там, — это моя страна, вот со всем этим пафосом, от моря до моря, несмотря на все эмигрантские заморочки, несмотря на то, что отца через год после приезда выгнали с работы и ему пришлось переучиваться — в его возрасте. Несмотря на следующие три года в — в такой заднице, что ты не можешь себе представить, просто не можешь, ты так никогда не жил, ты не представляешь. Несмотря на то, шеф мой на постдоке был венгр по происхождению, они сбежали в 56-м и он ненавидел русских, ненавидел, он не хотел даже мне напакостить, он хотел, чтобы меня не было — ни в Университете, нигде. Вот это всё ничего не значит — и суки эти гестаповские в INS — тоже ничего не значат. Потому что это моя страна, потому что я её люблю — я никого и ничего так никогда не любила. Лизку только.
Замолчала, передёрнула плечами, я начал вылезать из ветровки она отмахнулась, не надо. Ветер, темно, фонари, тополь на той стороне улицы слегка поёжился.
— Мартин хороший, правда, он невероятно хороший. Он абсолютно нормальный человек, я не знаю, как бы я без него жила. Он такой спокойный, я точно знаю, что он никогда не потеряет голову, он меня терпел, когда я писала диссер, а у меня были мигрени, и я вообще не разговаривала неделями, а только выла и бросалась книгами, а он их собирал, шёл готовить мне ужин, который я отказывалась есть, а потом мыл посуду и садился подбирать мне материалы. А ещё я начинаю плакать, то есть, действительно, — когда вспоминаю, как мы позвали на Лизкин день рождения детей, а никто не пришёл, и он её развлекал весь вечер так, что она легла спать совершенно счастливая, с зайцем в обнимку, а я потом ещё прорыдала полночи, от счастья тоже, — что он есть, просто что он есть. Ты понимаешь?
Я понимаю, конечно, но как-то вчуже, умом, что ли — понимаю, — и отворачиваюсь от неё, совсем уж это незачем, и машу рукой, тачка выруливает с третьей полосы, чуть не визжит тормозами. И мы едем ко мне.
Утром, сложив свою раскладушку, которая едва поместилась на кухне, я приготовил ей завтрак. Постучался в спальню, она уже проснулась, вышла, умилилась кукурузным хлопьям и отказалась пить шестипроцентное молоко — слишком жирное, неполезно.