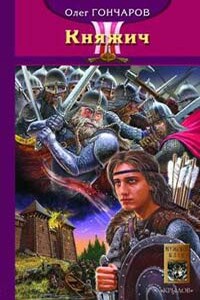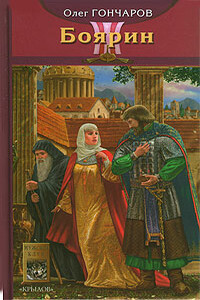— Какой ключ? — впотьмах бабку не видно, но чую я, она в испуге в угол забилась.
— От чулана, в котором ты сало хранишь.
— Али проголодался ты? Так шел бы в поварню, там бабы к завтрему снедь готовить должны…
— Не тебе решать, куда мне идти! Ключ мне, да поживее!
— Ага, — и огнивом клацнула.
Брызнули искры, затлел трут, а через мгновение желтый язычок огня заплясал, лампа масляная загорелась и светло в клетушке стало. Разглядел я бабку — в самый угол она забилась. Волосики у нее реденькие добырком стоят, взгляд спросонья бешеный, рубаха чуть не до пупа задралась, ножки кривенькие под себя поджала, лампу рукой костлявой перед собой, словно щит, выставила, а в другой руке у нее валенок. Ни дать ни взять — кикимвра! [60]
— Ты чего ржешь?! — говорит мне сердито.
— А ты чего, — я ей сквозь смех, — валенком от меня отбиваться решила?
— От вас, мужиков, разве отобьешься. — Валенок она в сторонку отложила, лампу поставила, рубаху одернула. — Что глазищи бесстыжие вылупил? Бабы живой не видал?
— Да сдалась ты мне, как припарка мертвому, — сказал я примирительно.
— На кой ляд ключ-то тебе? — встала она с пола, а сама на меня с опаской поглядывает.
— Зуб у меня разболелся, сало с чесноком нужно, а чулан на замке.
— Так бы сразу и сказал, — вздохнула она разочарованно.
— Говорил же я.
— Говорил… — передразнила она меня, порылась под подушкой, достала большую связку ключей кованых, позвенела, их перебирая, один с кольца сняла. — На, — протянула мне, — да, смотри, много-то не отрезай. Зима впереди длинная. Еще сгодится сальцо-то.
Я у нее ключ выхватил, лампу с пола подцепил и бегом в подклеть, а она мне вдогон:
— Потом верни, а то вам только в руки дай, так все сало пожрете…
Но я ее уже не слушал. Скатился кубарем в подпол, ключ в замок вставил. Щелкнуло в нем звонко, дужка отвалилась, только успел подхватить, чтоб наземь не упала. Положил замок на полку, дверь на себя рванул. А в чулане запасов прорва: и окорока копченые, и рыба вяленая, и корчаги с маслом топленым, год, наверное, на этих закусках прожить всем Вышгородом можно.
— Запасливая карга, — говорю, а сам от боли морщусь, — хорошая у Ольги ключница.
Вот и сало на крюках развешано. Большими ломтями розовеет. Соль, словно драгоценные каменья, на шматах поблескивает. Россыпью искр в свете лампы играет.
— Это сколько же на соль добра-то потрачено? [61] да мне сейчас не до любования. Вытащил я кинжал, Претича подарок, из-за голенища, отрезал от шмата тоненький кусочек и на десну, под зуб больной, положил.
Из косы на стене головку чеснока выдернул, зубчик выломал, очистил от кожуры, пополам разрезал. Дух ядреный по чулану поплыл, остальные вкусные запахи перебивая. А я зубчик себе на запястье положил да тряпицей примотал. Пока все это проделывал, не заметил, как сало проглотил, уж больно смачным оно оказалось. Пришлось новый кусок отрезать. Небось, не оскудеют запасы у ключницы.
Спрятал кинжал обратно, сел на мешок опечатанный, вроде не съестное в нем, а что-то мягкое, глаза закрыл.
— Боля ты, боля, Марена Кощевна… — зашептал старый заговор, тот, что на подворье Микулином заучивал.
И вскоре отпустила боль меня, среди ночи из постели Ольгиной поднявшая. Притихла, а потом и вовсе ушла…
— Опять с варяжкой низались? — недовольно заворчала сонная Малуша, когда я в клеть свою вернулся.
— А тебе-то что? — Я на соседний лежак пригнездился.
— Ничего, — повернулась она на другой бок. — Весь сон мне перебил. А такой красивый сон был. Матушка снилась…