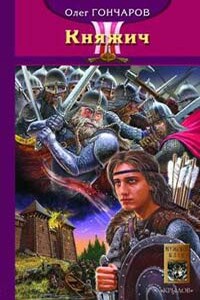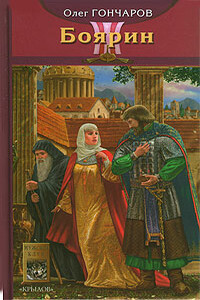— Мы лекаря сегодня казнить собрались, — передернула она плечиком.
— И за что же Соломону честь такая?
— Он сына моего отравить хотел, — скривилась княгиня, словно сама отраву приняла.
— Что-то тут не так. Сколько лет ты ему доверяла…
— Выходит, и лекарям верить нельзя, — перебила она меня.
— Так и себе можно в вере отказать. Я слышал, что жив и здоров каган.
— Это сейчас. Ты не видел, как седмицу назад его выворачивало. Из нужника не вылезал. Опасалась я, что совсем хворобой изойдет. Исхудал, как блесточка, от ветра его шатало…
— А Соломон тут при чем?
— Так ведь он сам сознался, что его это рук дело.
— Ну, у ката киевского и мертвый на себя все беды людские примет.
Отмахнулась она платочком.
— Дозволь, княгиня, мне с иудеем переговорить. Сколько лет мы в знакомцах ходим. Проститься с ним хочу, — не отступился я.
— А мне прикажешь ждать тут, пока ты с лекарем лясы точить будешь?
— Отчего же ждать? — отворил я дверь. — Григорий, Никифор, проходите. Зовет вас Ольга, княгиня Киевская.
— Мир этому дому, — Григорий в горницу вошел.
— Пусть Господь будет к хозяевам милостив, — от баса послуха задребезжала слюда в оконцах.
— Ну, так я в поруб спущусь? — взглянул я на Ольгу.
— Ступай, — кивнула княгиня.
Притворил я дверь за собой, а тут уже Ицхак меня встретил.
— Ну? Что? — А в глазах у посадника надежда с тревогой вперемешку.
— Погоди, — я ему и бегом в поруб.
Прошел через подклеть. Гридни двери в поруб стерегут, а то вдруг кто вздумает иудея из полона выручать. Не стерпел я, рассмеялся от такого рвения.
Только они шутки моей не поняли, мечи вынули и на меня поперли. То ли со скуки у них ум за разум зашел, то ли впотьмах не разглядели, кто там смеется?
— Обалдели, что ли, совсем? — я им крикнул.
И вовремя. Не то бы до смертоубийства гридни дошли. С них станется.
— Это же я, Добрый, ключник княжеский.
— Тьфу, — сплюнул в сердцах один из гридней. — А мы тебя с потемок не признали.
— Кто за главного у вас? — спросил я, не мешкая.
— Что? Пора? — из клетушки, что рядом с дверью в поруб была, Претич выглянул.
Увидал меня, удивился, улыбнулся…
— Все после, сотник, — остановил я его. — Соломон здесь?
— А куда ему деться?
— Меня Ольга к нему послала. Вели, чтобы дверь отпирали.
И тут крик жуткий раздался. Словно из кого-то живьем кишки вынули.
— Это он? — спросил я тревожно.
— Да нет, — ответил Претич. — Это Дубынька-разбойник вопит. Его вчера привезли. Удумал, чудилка, купцов на черниговском тракте грабить, да на Свенельда со Святославом нарвался. Ну, его Душегуб наш сразу на правило и выставил. У ката рука нелегкая. Теперь Дубынька отойти от правежа не может. Всю ночь орал, словно резаный, спать не давал. Засовы отоприте, — велел он гридням.
Лязгнуло, заскрипело, отворилось. Вошел я в полумрак поруба. От мороза поежился, от вони поморщился.
— Соломон, — позвал.
— А? Что? — в углу зашевелилось. — Уже?
— Тише, Соломон, — к лекарю я на груду тряпья подсел. — Это я, Добрыня.
Смотрю на старика, а у самого чувство, словно это меня кат мучил. Не пожалел его Душегуб. Космы его седые подпалил, бороду выдернул, на руке двух ногтей не хватает. Из пальцев сукровица бежит, а про лицо и говорить нечего — синяком сплошным. Лишь по голосу лекаря и узнал.
— Как же ты так? — только и смог спросить.
— Вот ведь, Добрынюшка, что со мной сталось, — он мне тихонько. — Отплатила мне княгиня за все хорошее и плохого не забыла. Казнить меня ноне собралась…
— Ты погоди, — я ему. — Может, еще и обойдется все.
— Нет, — вздохнул лекарь тяжко. — Не обойдется. Кат мне нутро отбил. Не жилец я больше.
— Да брось, Соломон, ты не из таких передряг выкарабкивался.
— Когда это было… — закрыл старик глаза. — Я же тогда молодой был, а теперь…
Помолчал он, с силами собираясь, а потом на меня взглянул.
— Я же и вправду виноват, — прошептал он. — Память меня подвела. Простудился Святослав. Грудь ему заложило, горло гнойниками пошло. Ну, я ему отвар и приготовил. Только по забывчивости своей донника в четыре раза больше, чем следовало, положил…
— Он же в таких количествах доветренную лихоманку вызывает, — вспомнились вдруг наставления Белорева.