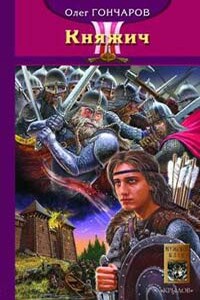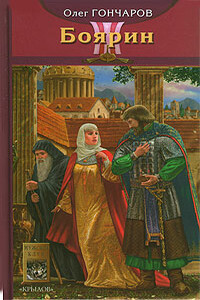А потягаться хотелось. Видели мы, как вражины полонян плетками стегали. Словно баранов, в середку лагеря сгоняли. Парни молодые и девки в полоне оказались. Били их, кричали громко. Но заметил я, что били не сильно. Оттого, видно, одна полонянка, маленькая, худенькая, в рогожку укутанная, на обидчика с кулаками кинулась. Досталось ей. Двое ратников сразу булгарину на выручку пришли. Оторвали ее от стражника. Швырнули, словно куль, в самую гущу пленников. Опрокинула, падая, она людей. Те на землю повалились. А булгары только гогочут. Радостно им от того, как славяне у их ног в снегу барахтаются. Только чахлый предводитель булгарского воинства на своих заругался сильно. Те и притихли.
Жалко было полонян. Сильно жалко. Я же сам вроде как в полоне нахожусь. И хоть хозяйка моя далеко, все одно: даже на воле себя подневольным чувствую. Потому и хотелось мне своим хоть чем-то помочь. Только что мы вдвоем против силищи такой поделать могли?
— Эх, язви их всех в душу… — прошептал подгудошник.
Подполз ко мне.
— Не кручинься ты так, — я сказал тихо.
Он рядышком, у подножья здоровенного дуба пристроился. Вздохнул сокрушенно.
— Видать, Доля нам ныне удачи не даст.
— Ничего, — ответил я. — Меня другое радует.
— Что? — удивленно посмотрел на меня сопутник.
— Сколько в стане ратников?
— Я сто двадцать три насчитал.
— А полонян сколько?
— Три десятка. Ну и что? — Баян все еще не понял, о чем я ему сказать пытаюсь.
— А то получается, что для булгар пленники добыча немалая. Дорогая, по всему видать. Иначе бы столько воинов для охраны не поставили бы. И стерегут они полонян зорко. И беречь их будут.
— То-то я смотрю, — горько усмехнулся Баян, — что плетками они наших стегают. Берегут, видать.
— Для острастки это. Не хотят они, чтобы полоняне разбегаться начали. Ты же сам видел, что никто из наших даже не поморщился. Выходит, небольно бьют.
— Зато мы налетчиков больно бить будем, — упрямо сказал подгудошник.
— Ну, положим мы десяток. Ну, может, побольше чуток. А остальные нас повяжут. И пойдем мы с тобой вместо Мурома в Булгар их проклятый. Разве это лучше будет?
— А если вслед за ними пристроиться да потихоньку по одному валить? — не унимался парень.
— Это как раз до следующей зимы нам хватит, — урезонил я его. — И потом, они же не будут потери свои сносить. Они же супротив нас с тобой окрысятся.
— Сдается мне, что просто струсил ты, Добрый, — взглянул он мне прямо в глаза.
Выдержал я его взгляд.
— Прости, дурака, — понял он, что глупость сказал. Глаза к земле опустил и вздохнул тяжко.
— Ты думаешь, мне полонян не жалко? — спросил я его.
Промолчал Баян.
— Знаешь, как меня учитель мой Гостомысл наставлял? — продолжил я. — Всегда надобно первый «Ах!» пережить. Потом решение принимать, чтобы все выгоды и потери возможные высчитать.
— Гостомысл? — Баян на меня наконец взглянул.
— Да, — кивнул я. — Человек Даждьбогов. А ты что? Знал его?
— Нет, — сказал Баян. — Но слышал о нем.
— Мудрый человек был. Жаль, что сгинул.
— Но ведь нельзя же булгар так отпускать! — снова он за свое принялся.
— А отпустить придется, — сказал я. — Разумно поступать нужно, а не лезть на рожон. Рожон-то вострый, можно и пораниться, а толку от этого не будет.
— Эх! — махнул подгудошник рукой. Встал и прочь пошел.
Три дня он потом со мной не разговаривал, обижался. Наконец не выдержал я. Сам первым заговорил.
— Злишься на меня? — спросил я подгудошника.
— Нет, — пожал он плечами.
— Так чего же тогда рожу воротишь?
— Не ворочу я, — отмахнуться он попытался.
— А коли не воротишь, то чего же ты так?
— А потому, — ответил он. — Если бы среди полонян был кто-то из близких твоих? Ты бы тоже их бросил?
— Мои близкие и так в полоне сидят, — сказал я ему. Но уже очень скоро мне пришлось убедиться в том, что прав был Баян. Что ради своих можно на невозможное решиться. Только я это потом понял, а пока уверен был, что все правильно сделал.