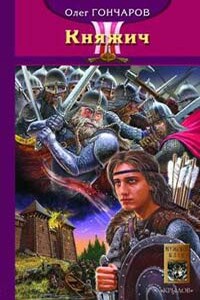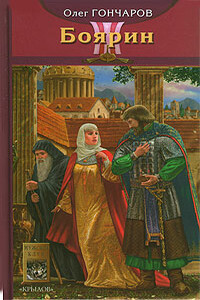Понял я, что не просто так меня княгиня утром ранним позвала. Не просто так всех из горницы выгнала, чтоб разговору нашему не мешали.
— Только тебе, Добрый, я довериться могу, — сказала она, когда за Заглядой закрылась дверь.
— Что опять стряслось?
Она помолчала немного, с мыслями собралась, подошла ко мне поближе и в глаза заглянула.
— Я с тобой никогда в бирюльки не играла, — сказала она. — Ты меня всякой знаешь…
Я невольно улыбнулся, вспомнив ее губы, которые во тьме вышгородской опочивальни мои губы искали.
— А потому не хочу вокруг да около ходить. — Она еще раз внимательно мне в глаза посмотрела, точно подвох какой-то высмотреть там могла. — Тебе такое имя — Григорий знакомо ли?
И сразу встало передо мной лицо Андрея-рыбака, вонь нестерпимая от ран гниющих в нос ударила, слова его вспомнились: «Коли окажешься в Муроме, найди там Григория-пустынника. Ученик это мой. Человек чистый и душой светлый…»
— Да, Ольга, — сказал я ей. — Про него мне перед смертью рыбак рассказывал.
— А где искать его знаешь?
— Среди муромов [80] он живет.
— Он мне здесь, в Киеве, нужен.
— Зачем?
— А то ты не знаешь? — пожала она плечами.
— Значит, все же решила ты вере своей изменить? — спросил я.
Отвернулась она, к оконцу подошла. Помолчала немного, а потом сказала тихо:
— А какой вере? В Одина, про которого мне отец рассказывал, или в Хорса, которому на родине, в Ладоге, требы возносили? Или, может быть, в Перуна Полянского мне верить? Так ведун поступками своими мне эту веру отохотил. Твой Даждьбог меня тоже не примет — уж больно много я людям его горя принесла. Тебе, вот, опять же, отцу твоему да Малуше жизнь изгадила. Вот и выходит, что нет среди богов у меня заступника. А он мне ой как нужен. А Иисус… он прощать умеет. Может, и меня простить сможет.
Разве мог я на это возразить? Прав был Андрей, когда ее деревцем на студеном ветру назвал. И не мне ее поступки и желания судить. Обещал помочь, так уж не отпирайся.
— Значит, креститься удумала? — подошел я к ней, обнять захотел, но не решился.
— Да, — сказала она твердо. — Я слово дала, а от такого не отмахиваются.
— Кому? Звенемиру? Так ведь он…
— Себе я то слово, дала. — Она платочек свой скомкала, в кулачке сжала.
Один из светильников, освещавших горницу, вспыхнул вдруг ярко и погас, точно задул его кто-то. Темнее в горнице стало, но она словно и не заметила этого. Стояла и в оконце смотрела, словно там, за мутной слюдой, видела что-то, что другим не видно. А я за спиной ее стоял и думал, как же мне ей объяснить, что поступком своим она столько набаламутить может, что и не расхлебаешь потом. И отговорить ее мне хотелось, но в душе понимал, что права она. Кругом права. Опора ей нужна, а я ей больше того, что уже дал, дать никогда не смогу. Потому и спросил:
— Так зачем тебе Григорий этот? Вон, на Козарах, Серафим в церквушке своей окрестит…
— А есть ли Бог в той церквушке? — резко обернулась она.
— Рыбак говорил как-то, что Бог его есть везде…
— Ошибался он, значит, — отрезала она. — Выходит, есть места, в которых о Боге забыли. Так, только видимость одна осталась. Шелуха. А я хочу с настоящим божьим человеком поговорить и под его приглядом в Христову веру креститься.