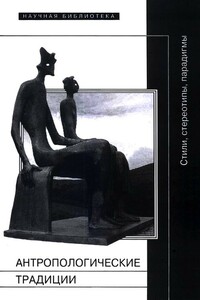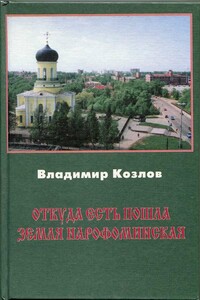Другие статьи были несправедливыми: статья седьмая обязывала царя Ираклия и его преемников поддерживать Россию в военном отношении, подчиняться российским императорским служащим и насаждать среди офицеров и чиновников идеи преданности России. Статья восьмая подчиняла грузинского Католикоса-Патриарха российскому Синоду, ставя его на восьмое место за епископом Тобольским, игнорируя грузинскую автокефалию.
Заключительные статьи обещали, что дворяне Картли и Кахетии, состоящие в списке царя Ираклия, будут считаться российскими дворянами <…>
В итоге автор пришел к выводу о том, что трактат являлся макиавеллиевским обманом (Рейфилд, 2018).
О фактическом лишении привилегий местной элиты в Закавказье пишет также историк Йорг Баберовски в статье «Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828–1914 гг.» (Баберовски, 2004. С. 308–309). Присутствие спровоцировало огромный интерес к южному историческому краю и легло в основу зарождения имперской литературной традиции. Если самые первые произведения о Грузии и Кавказе носили абстрактный характер, так как русские авторы не посещали край, опасаясь персидско-османских набегов, то в начале XIX века появилась масса путевой литературы. Ее авторами были русские путешественники, чиновники, ссыльные, изучавшие экзотический край. Травелоги или путевые заметки играли важную социально-политическую роль: исследовали провинцию Российской империи и приближали ее к имперскому центру.
В письменных источниках начала XIX века часто топонимы Кавказ и Грузия употребляются в едином контексте. Например, в воспоминаниях русского писателя-путешественника Евгения Львовича Маркова, автора «Очерков Кавказа» (1887) читаем: «Я не первый раз на Кавказе и не только душою полюбил вашу прекрасную Грузию…» (см. в: Имедадзе, 1957. С. 54). Образы грузин и черты горцев-мусульман (черкесов, дагестанцев, чеченцев) в русском сознании стали то противопоставляться, то накладываться друг на друга. Ева-Мария Аух в статье «Миф Кавказа» (2006) проследила за изменением восприятия кавказцев русскими. Она пишет, что до 1820 года Кавказ выступал как геокультурный объект (у Ломоносова, Державина это огромный горный массив или южное подножие России, «темный» и «дикий» край). В период до 1840 года Кавказ стал связываться с военно-художественным романтизмом, который соприкасался с темой покорения южного Кавказа (до 1828–1829 годов).
Для русских офицеров Кавказ являлся чужим миром, который играл важную роль в процессе доказательства самому себе собственной мужественности. В крае соседствовали опасность, война, предательство, богатая природа и гостеприимство. Отсюда и литературные образы: горцы изображались то разбойниками, то благородными дикарями, исполненными свободы, собственного достоинства, великодушия и благородства (Пушкин, «Братья разбойники», 1822). Кавказ был полем экспериментов для цивилизаторской миссии и испытанием для русской культуры и государственности. Такая градация схожа с противопоставлением европейских колонизаторов их «Ориенту» (Саид). Как пишет Харша Рам, «усиленное внимание к югу России приняло и укрепило дихотомию восток/запад»[6] (Ram, 2003. С. 23). За период колонизации экзотические «другие» превратились в «туземцев», а сами колонизаторы не только ощутили, что живут в ином мире, но и осознали обязанности, налагаемые на них государственной службой. Кавказский хребет стал фронтиром между православной Россией, мусульманским Северным Кавказом и православной Грузией. Назвать грузин «дикарями» было весьма сомнительно. Важными особенностями, которые поставили под сомнение голоса о «цивилизаторской миссии» в Грузии, были ее раннее христианство, древняя культура и ранняя государственность:
Иверия, или нынешняя Грузия, искони славилась воинскою доблистею своего народа, так что ни персидское, ни македонское оружие не могло поработить его; славилась также богатством (древние Аргонавты искали Златого руна в соседственной с нею Мингрелии). Завоеванная Помпеем, она делается с того времени известною в римской истории… (Карамзин, 2003. T. VI. С. 313).