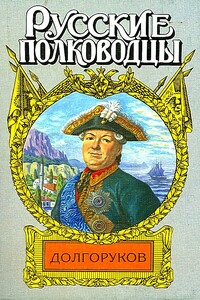Зализняк объявил привал, приказал выкатить казакам несколько бочонков вина, а Гонту усадил рядом с собой, налил горилки, спросил с надеждой:
— Значит, вместе по Умани вдарим?
— Вместе, — кивнул Гонта, лихо опрокидывая в рот чарку...
18 июня, когда солнце выползло почти к половине неба, войско Зализняка подошло к крепости, обложило её с трёх сторон, растёкшись торопливыми потоками вдоль вала. А с четвёртой стороны — у Грекова леса — стали казаки Гонты.
Грозный вид затаившейся Умани охладил многие горячие головы; затрепетали колии, опасливо поглядывая на крутые стены, на торчавшие из бойниц курносые пушки, загомонили несмело, вполголоса:
— Куда ж мы против них с кольями?.. Поди, и к палисаду не пустят — всех побьют!
— Добежать — добежим. Да ить палисад — не солома... Дубовый!.. Вилами не проткнёшь!
— И топором махать — дня не хватит!
— Хлопцы! А на кой ляд нам эта Умань? Аль по другим местам ляхов и жидов мало?
— Верно! Верно!.. К чёрту Умань! Айда к батьке!
Толпа, нестройная, шумная, с некоторой нерешительностью придвинулась к Зализняку, закричала, что надо отступиться от крепости. А он, приметив её безликую неуверенность, с нарочитой беспечностью подошёл к коню, легко прыгнул в седло, привстал на стременах, чтоб все видели, вскрикнул звучно и воинственно:
— Не страшись, хлопцы!.. Вона сколько нас!.. Пугнём ляхов — сами крепость сдадут!
И тут же, при всех, велел Гонте послать к Младановичу казака с ультиматумом. Срок для ответа назначил до вечера.
Казак неохотно, с тоской в глазах, словно чувствуя, что едет на погибель, влез на лошадь, тронул поводья, медленно приблизился к крепостным воротам; под дулами ружей, нацеленных прямо в грудь, взмахнул белым платком, крикнул жолнерам, чтоб впустили.
Коротко скрипнув, створки ворот чуть-чуть приоткрылись.
Казак оглянулся, помахал рукой — будто прощался — наблюдавшим за ним колиям и скрылся за воротами.
Снова его увидели уже вечером, когда закатное солнце зацепилось малиновым краем за вершины дальних деревьев. Два жолнера выволокли окровавленного казака на стену, подтащили к самому краю, поставили на колени. Казак был гол, истерзан страшными пытками, вместо лица — распухшая кровоточащая маска.
Нахмурился Зализняк, предчувствуя надвигающуюся беду. Закусил чёрный ус Гонта. Притихли, крестясь, колии.
Один из жолнеров вынул из ножен саблю, отступил в сторону, неторопливо примерился и сильным резким ударом срубил склонённую казачью голову. Осторожно, чтобы не запачкать сапоги хлынувшей фонтаном кровью, он столкнул бездыханное тело со стены, затем взял отрубленную голову за длинный чуб и, крутнув, словно пращу, швырнул вниз к палисаду.
— Всех порубим! — закричали со стен ляхи. — Кто ещё хочет — подходи!
Ахнули колли, поглядев на такую казнь. Но шум голосов перекрыл надрывный вопль Зализняка:
— Хлопцы-ы!.. Видели, как поганые ляхи православного жизни лишили?
— Видели, батька!.. Все видели! — загремела толпа.
— Тогда за веру православную, за волю вольную — геть до Умани!
— А-а-а... — разнеслось над полем свирепое тысячеголосье. Ощетинившись длинными пиками, гнутыми косами, заострёнными кольями, войско неровной волной побежало к крепости.
— Собаки бешеные, — прошипел, бледнея, Младанович, окидывая цепким взором растекающееся вокруг вала людское море. Но не струсил — верил в неприступность Умани, — и ломким, прерывистым голосом закричал, размахивая руками: — Жолнеры Шафранского — к главным воротам!.. Поручик Ленарт — к другим!.. Зажечь огонь под котлами!..
Первый приступ закончился совсем быстро.
Едва нападавшие приблизились к валу, на башне, где находился Младанович, ударила сигнальная пушка. Прочертив в небе плавную дугу, ядро мягко упало на нескошенную траву, чёрным мячиком покатилось под ноги колиям и, прошипев фитилём, рвануло горячими осколками мужицкие тела. Тут же на крепостных стенах тягуче пророкотали остальные орудия.
Орущие сотни замедлили бег, остановились в нерешительности, а затем — спасаясь от рвущихся ядер — отхлынули назад, оставив у вала убитых и раненых.
Видя, как бегут колии, стоявший рядом с Зализняком Гонта сказал негромко: