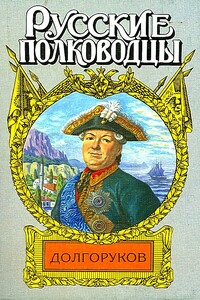Выстрелы услышали в Балаклаве, расположенной ниже, в двух вёрстах от лагеря Кохиуса. Через час в горы поднялись с рапортами капитан 1-го ранга Сухотин и капитан 3-го ранга Консберген, корабли которых стояли в бухте.
Разгорячённый вином и торжествами Долгоруков принял рапорты, расцеловал бравых офицеров, потопивших месяц назад несколько турецких судов. Суровые, просоленные ветрами капитаны не привыкли к такому обхождению — смутились. А Берг, подметивший их растерянность, улыбчиво пошутил:
— Топить турок, поди, легче, а?
Все засмеялись.
— Пусть топят! — крикнул Долгоруков. — Дно морское широкое!.. — Он обхватил пальцами серебряный стаканчик, вскинул руку вверх. — Ранее сие море звалось Русским. Теперь оно Чёрное. Но нашими трудами стало и останется вечно русским морем... За российский Черноморский флот! За российское оружие! За её величество! Виват!
Опрокидывая шаткие походные стульчики, все разом вскочили с мест, нестройно, но громко прокричали здравицу и осушили бокалы.
После обеда Долгоруков спустился вниз, в Балаклаву, чтобы осмотреть гавань и стоявшие в ней корабли. Свои подвиги Василий Михайлович вершил в сухопутных баталиях, в морском деле ничего не смыслил, но даже он сообразил, насколько удобна для флота раскинувшаяся перед ним бухта. Окружённая с трёх сторон высокими обрывистыми горами, она длинным, многовёрстным языком уходила в глубь полуострова; узкий пролив, отделяющий бухту от моря, надёжно защищался двумя батареями, поставленными на противоположных берегах. Долгоруков даже подумал досадливо, что не только Керчь и Еникале следовало выторговывать у татар, а и эту бухту.
Стоявший рядом с ним Сухотин, указывая рукой на корабли, давал краткие пояснения, называя тип корабля, число пушек, состав команды. Флотилия была небольшая, но грозная: два 32-пушечных фрегата — Консбергена и самого Сухотина, — четыре 12-пушечных «новоизобретённых» корабля и палубный бот с 20 пушками.
— В нашей силе закрыть побережье от Козлова до Керчи, — горделиво тряхнув головой, закончил пояснения Сухотин.
— Иного не дано! — коротко ответил Долгоруков. — Коль пустим десант на берег — выбивать придётся с кровью.
По настоятельной просьбе капитанов Василий Михайлович посетил оба фрегата, похвалил команды за отвагу и вечером, провожаемый пушечным салютом, вернулся в лагерь Кохиуса.
На рассвете отряд командующего направился к Бельбеку, к подполковнику Боку, где его поджидали гусары и донцы с обозом, а на следующий день весь отряд вошёл в Кезлев.
Некогда шумный и многолюдный город опустел ещё больше: татары, замордованные грабежами русских солдат, как-то незаметно и тихо покинули свои дома; из жителей остались только христиане — греки и армяне.
Долгоруков задерживаться в Кезлеве не стал — устроил короткий смотр гарнизону, переночевал и утром выехал к Перекопу.
Рассеянно поглядывая на безжизненную, душную степь, бугрившуюся круглыми шапками редких скифских курганов, Василий Михайлович погрузился в неторопливые думы.
Эта непродолжительная поездка, носившая главным образом демонстративно-устрашающий характер, оказалась достаточно полезной. Беседы с калгой и ханом, с генералами и офицерами Крымского корпуса, с резидентом Веселицким, подробно обрисовавшим скрытое от глаз, но ощутимое по мелким внешним деталям, а ещё больше по донесениям конфидентов соперничество внутри татарского общества, — всё это убеждало, что за Крым предстоит ещё долгая и трудная борьба. Генерал припомнил образное, но очень точное сравнение, брошенное в разговоре Веселицким.
— Турция подобна солнцу, — говорил статский советник, — а Крым — тень от него. Покамест светит солнце — тень не исчезнет. Оставляя по проектируемому договору султану духовную власть, мы оставляем частицу света, которая будет и впредь порождать тень...
«Прав советник, ох прав, — думал, вздыхая, Долгоруков. — Войско неприятеля можно разбить, флот — потопить. Но как сломать веру?..»
23 июля он вернулся в свой лагерь у Днепра.
А через несколько дней Веселицкий прислал письмо, что Шагин-Гирей сложил с себя должность калги-султана и собирается выехать из Крыма к командующему.