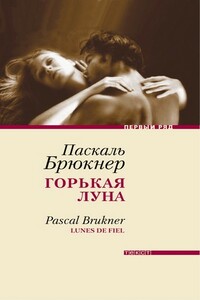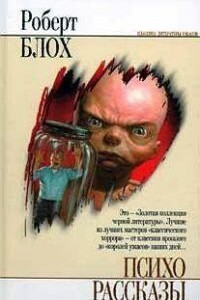Теперь мне оставалось только одно — разыскать Аиду. Нельзя было ее бросать, ведь случай свел нас, чтобы я о ней позаботилась. Это Аида была перстом судьбы, посланным мне знаком — она, а не Бенжамен. Эта девочка пробудила во мне чувство, какого я давным-давно ни к кому на свете не испытывала. Счастливица, она сама не знала, какой это дар — когда все впервые и жизнь бьет через край, — великий дар детства, перед которым устоять невозможно. Бог задумал воплотить совершенство на земле и создал маленьких девочек.
А уж Аида — такая милая, такая резвая — была подлинным шедевром. Мне не терпелось обнять ее, расцеловать круглые щечки, заглянуть в лукавые глазки, посмеяться ее выходкам. Я — взрослая, и в этом моя слабость, она — беззащитная девчушка, если сложить нас вместе, пожалуй, выйдет полноценный человек. Наутро я уехала в Париж, от души надеясь, что еще не поздно. Аиду я нашла у бабушкиной соседки, и мне удалось уговорить эту женщину отпустить ее со мной на каникулы. Мы чудесно провели остаток лета в горах между Юра и Верхней Савойей. Счастливый месяц — мы шептались, как две подружки, беседовали по душам, вместе угощались разными вкусными блюдами. Она то и дело висла у меня на шее, усаживалась на меня и ложилась, и все так естественно, будто мое тело было продолжением ее собственного. Я для нее была — «мое!». Я все пыталась приручить плутовку, уже любя ее как родную дочь, но она-то моей еще не стала. Бывало, расплачется, отпихнет меня, начнет упрекать, мол, это я отняла у нее бабулю. Когда мы вернулись, я занялась формальностями удочерения; мое бесплодие было веским основанием. Конечно, я незамужняя, но и профессия врача, и обстоятельства, при которых я познакомилась с Аидой, — все это должно было помочь мне смягчить неумолимых представителей закона. Пока суд да дело, Аиду поместили в приют, а мне разрешили забирать ее на два дня в неделю. Административная комиссия проверяла мой моральный облик, а я тем временем снова ходила на занятия, писала диссертацию, работала в больнице.
Полгода спустя, декабрьским вечером — я к тому времени выбросила из головы всю эту историю и постепенно выздоравливала душой, — Аида, игравшая в соседней комнате, вдруг позвала меня. Сказала, что даст мне кое-что послушать: фрагмент той самой кассеты, которую я нашла возле «Сухоцвета» в то утро в августе. Я тогда сразу же поставила ее на автомагнитолу, но пленку заело: наверно, земля забилась в колесики. Я бы эту кассету выбросила, но Аида нашла ее в бардачке и взяла себе.
К миру звуков она питала подлинную страсть, в старых транзисторах копалась с упоением. Часами просиживала у приемника, ловила незнакомые станции на разных волнах и завороженно слушала иностранную речь на десятках языков вперемешку. Хозяйничала Аида и в моих кассетах, колдовала над ними, без конца перематывала, как клубки шерсти для вязанья. Эту кассету она тоже сотни раз прокручивала, пытаясь разобрать хоть что-то связное сквозь треск и хрип. Даже «чинила» ее и «подчищала» по советам профессора электроакустики, с которым она переписывалась, и вот, потратив не одну неделю, ухитрилась восстановить пять минут из шестидесяти. Меня кольнуло недоброе предчувствие, когда Аида вставила этот маленький черный прямоугольник в плейер. Я услышала обрывки диалога — говорили две женщины, одна помоложе, другая постарше. Первый голос был тоненький, и в нем звучали слезы. Второй — пожестче, с язвительными нотками. Слова то и дело прерывались каким-то свистом. Вот приблизительно что они говорили:
«— …одни несчастья приносит, потому что слабак, чего от него ждать… нет, как только вернусь, все выложу газетчикам, издателям… докажу… слово в слово… плагиат…
— …вправду сделаете? Не смешите меня… не способны…
— …плохо меня знаете… мало того, что подчинился, работал на вас не за страх, а за совесть… ненавижу.
— …жалкий человечишка… вертим им, как хотим… думала, вы от него без ума… выбросил вас из головы… плевать хотел, что вас сюда упрятали…»
(Тут фразы стали совсем неразборчивыми из-за помех и шумов, но чуть дальше диалог возобновился.)