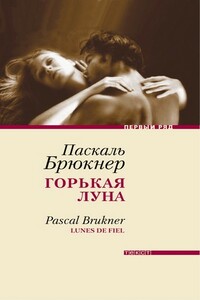По некоторым едва уловимым мелочам я догадывался, что Стейнер очень хочет понравиться моей Элен: он блистал красноречием, изощрялся в остроумии. Элен не оставалась в долгу и хохотала вовсю. Однако я чувствовал, что за веселыми шутками нашего гостеприимного хозяина кроется печаль. Всякий раз, когда Элен смеялась, — а именно тогда она бывала неотразимо хороша, ни в ком больше я не встречал такого дивного сплава грации и непринужденности, — так вот, от ее смеха Стейнер мрачнел, даже, кажется, морщился. И тогда я понимал: он растерян, он пасует перед разделявшей их пропастью лет. В какой-то момент он даже сказал ей:
— Вы нарочно явились ко мне, чтобы напомнить старику, удалившемуся от света, как много он потерял?
Меня эти слова огорошили.
А Элен не давала ему роздыха, отчаянно кокетничала, добивалась, чтобы он открыл ей душу.
— Вы жили в такое удивительное время, расскажите же мне.
Стейнер не заставил себя долго просить: в мае шестьдесят восьмого он оказался в рядах троцкистов — случайно, право, — и с тех пор сохранил стойкое отвращение ко всякой несправедливости. Затем он увлекся американской контркультурой, много странствовал по свету, в том числе посетил священный треугольник — Гоа, Ивиса, Бали. Он сделал головокружительную карьеру на руинах идеалов, о которых и теперь вспоминал с нежностью, сказал нам даже, что подумывает съездить в Индию еще раз, причем так же, как ездил в молодости. Элен пришла в восторг
— Как это увлекательно! Ну почему я опоздала родиться на тридцать лет!
— Помилуйте, вы просто не цените своего счастья: видеть мир свежим взглядом, создавать его заново, открывая впервые. Молодые любят миражи — что ж, они правы.
К моему недоумению, Элен на левых просто молилась — мне это казалось глупостью, тем более при ее положении. Лично я никогда не выносил горлопанов того времени: они стыдят вас, если вы не разделяли их иллюзии, и еще пуще стыдят, если вы их не утратили. Сегодня, как и вчера, им нужно одно: сохранить за собой власть, не допустить к ней следующие поколения. Впрочем, кипятился я зря: Стейнер и не думал набивать себе цену. Он лишь предавался ностальгии, вспоминая о былых победах. Он легко признавал свои слабости и просчеты, будто хотел сказать: теперь ваша очередь, прошу! Действительно, все мы цивилизованные люди, и нечего лезть в бутылку.
Под конец ужина наш хозяин, побагровевший от вина и тепла, мимоходом задал и мне два-три вопроса — кто я, чем занимаюсь, — но с таким рассеянным видом, что я отвечал односложно, боясь наскучить ему. Он спросил, как мы с Элен познакомились. Я наспех сочинил какую-то сказку. Он улыбнулся, лукаво подмигнул и долго, слишком долго смотрел то на нее, то на меня, как бы пытаясь понять, что нас могло связывать. Меня это задело: он что, считает меня не парой такой женщине, как она? Или угадал во мне альфонса? Я разозлился и больше в разговоре не участвовал; глаза закрывались, и я с трудом сдерживал зевоту. А те двое разглагольствовали без умолку; казалось, все имена, которыми они сыпали, все темы, которых касались, нужны были только для того, чтобы ответить на один-единственный вопрос: из одного ли мы мира? Элен платила болтовней за ужин, откровенничала так запросто, что я только диву давался. Она была великолепна, настоящая королева, а я чувствовал себя ее холопом, желторотым пажом. Она говорила возбужденно, взахлеб, а г-н Стейнер гудел как майский жук, неспешно и негромко. Сквозь дремоту мне казалось, будто я оставил где-то включенным радио, но откуда доносится этот мерный гул, никак не мог определить. По мере того как проходили часы, лицо хозяина как-то отяжелело, глаза потускнели, даже волосы слиплись; куда девался фатоватый искатель приключений начала вечера? Передо мной был пожилой господин, распустивший хвост перед девицей.
После ужина мы с наслаждением развалились в глубоких креслах; хозяин дома ворошил поленья в камине и продолжал свой монолог, разгребая кочергой рдеющие уголья. Я представлял себе, как, должно быть, глубоко проминается супружеское ложе под его грузным телом. Говорил он все более невнятно и теперь напоминал мне старого индейского вождя, совершающего тайный обряд у огня; он колдовал, не обращая внимания на буран, по-прежнему бушевавший за окнами. Раймон же, убрав со стола и подав нам горячительные напитки — Элен трижды подливала себе арбуазской виноградной водки, — уселся у ног Жерома с подносом на коленях и принялся за яйцо всмятку, обмакивая в него длинные ломтики хлеба с маслом. Бедняга был безобразен донельзя, но мне вдруг пришла смешная мысль, что, будь он животным, я счел бы его даже симпатичным. С застывшей на губах готовностью к улыбке, он жадно ловил каждое слово своего хозяина, ожидал приказания, чтобы вмиг ожить. Он ел, наполовину смежив веки, точно ящер, всем своим видом показывая, что не слушает нас, как будто из-за толстой кожи — или подчиненного положения — был неспособен к общению с окружающими.