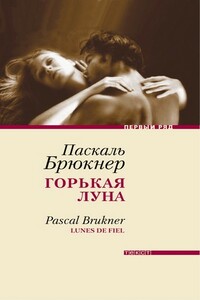— Какой кошмар — сидеть безвылазно в этой дыре, в глухомани. А дом-то, ну что за безобразие — какая-то помесь домика семи гномов с борделем!
Я был потрясен: лично мне дом показался очень красивым. Стало быть, моему вкусу нельзя доверять! Неужели я так ничему и не научился?
— И этот Стейнер, надо же так застрять в прошлом, мумия, да и только! Хуже нет этих старых пердунов — не могут забыть свой шестьдесят восьмой год и ничего другого знать не хотят.
Я хотел было возразить, но Элен, переплетя свои ноги с моими, мгновенно уснула. Я надел на нее пижамную куртку, укрыл периной, поцеловал в плечо. Она улыбнулась мне сквозь сон, улыбка была ласковая, полная нежности. Если бы только она не доставала меня своим либидо, как все было бы прекрасно!
Среди ночи я проснулся весь в поту, сердце колотилось, желудок крутило: зря я так много пил и ел. Мне послышалось, будто где-то тренькал звонок, тарахтел мотор, хлопали двери. Я зажег свет, зная, что Элен все равно будет спать как убитая. На подушке остались мои волосы, я пересчитал их. Потом в ванной долго разглядывал себя в увеличительном зеркале; в таком каждая пора на коже выглядит кратером, а каждый волосок — длинной пикой. Потери были налицо, и немалые. Я побледнел, осунулся; желтоватая кожа кругами обтянула глаза, мышцы дряблые, по подбородку сбегала трещинка, как будто время шаловливо царапнуло меня своей тросточкой. Да еще морщинка, та морщинка в уголке левого глаза никуда не делась. И это я возвращался с курорта! Меня несло к другому берегу. Годы накатывали на меня нескончаемым приливом, разрушали миллиметр за миллиметром. Как бы мне хотелось быть таким гладким, чтобы зеркала заглядывались в меня, а не я в них. Я ощупывал себя, пытаясь определить, много ли от меня осталось, и силясь остановить разрушение моих черт, которые осыпались повсюду, как песок. Я созерцал картину стремительного разрушения, и меня брала оторопь. В тридцать семь лет я чувствовал себя конченым человеком!
Наутро нас разбудил скрежет лопаты за окном. Ярко светило солнце. Зрелище из нашей комнаты открывалось столь же сказочное, сколь и печальное. Дом, затерянный в еловом лесу, стоял, прислонившись к утесу — каменной плите высотой в добрую сотню метров, вдали виднелись вершины Альп — они обозначали стены нашей тюрьмы. Куда ни глянь, глаз различал только белизну во всем многообразии оттенков. Мороз придавал пейзажу какую-то кристальную чистоту; на деревьях выросли снежные бороды, на водостоках — белые носы. Сосульки сверкали на ветвях, словно огни святого Эльма. Снег искрился, его блеск слепил глаза казалось, будто вся земля присыпана битым стеклом. От этой идиллической картинки мне стало страшновато, и я порадовался, что скоро ступлю на парижский асфальт. Мы были отрезаны от мира в этой ледяной пустыне, в окружении неприветливой чащи.
Зато перейдя к другому окну, я обрадовался, увидев, как Раймон, в длинных трусах и футболке, в тяжелых башмаках, надетых на шерстяные носки, с губкой и ведром воды, мыл нашу машину — он отбуксировал ее сюда на рассвете. Такой маленький, коренастый, свежевыбритый и, наверно, благоухающий, он драил кузов, выдыхая клубы пара, и при виде его мне стало весело. Решительно, я ошибся в нем вчера! Я оделся и спустился вниз, чтобы поблагодарить его за услугу. Он был, судя по всему, в расчудесном настроении, сообщил мне, что температура за ночь упала до минус двадцати. Сказал, что вот-вот приедет механик. Наш автомобильчик сверкал никелем на снегу, отмытый до блеска, — дорогая безделушка, причуда богатых горожан, немного неуместная в этой обстановке. Но он был здесь, и мне стало как-то спокойнее. Пусть он не готов пуститься в путь прямо сейчас — все равно. Раймон принялся очищать скребком ветровое стекло; он уже успел покопаться в моторе и полагал, что толчок мог повредить какую-то деталь. Механик, заверил он меня, все исправит в два счета.
Затем, надев брюки, слуга подал нам завтрак. Мы поели одни за низким столиком в гостиной. Где-то было включено радио, играла музыка — не то Франс Галь, не то Мишель Полнареф, я не разобрал. Раймон, шустрый, проворный, хлопотал, наполняя весь дом шорохами. Пока мы пили кофе, он натирал пол, смахивал пыль с мебели, по комнате разлился запах воска и меда. Вскоре пожаловал и «сам» в потертых джинсах и непромокаемых сапогах. Господин Стейнер был небрит, нечесан, сутулился; мне показалось, что он спал этой ночью не лучше меня. Длинный, как жердь, он будто не знал, куда девать свой остов, когда выпрямлялся во весь рост, а свисавшие серые пряди волос делали его похожим на какого-то облезлого гуру.