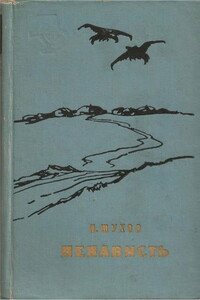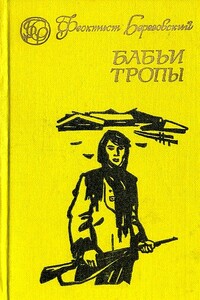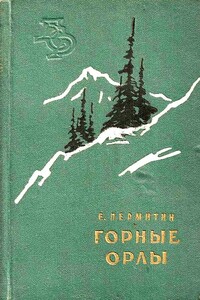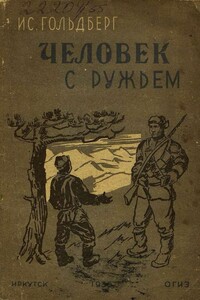— Это не порядок, товарищи. Ведь это форменное нарушение дисциплины…
— Надо подчиниться… Что мы будем мудрить?.. Нельзя так…
— Лучше пока переждать, а потом, попозже опять походатайствовать. К тому времени, пожалуй, и в центре изменят взгляд…
— Так будет благоразумнее, товарищ Широких.
Но товарищ Широких Андрей Фомич был далек от благоразумия. Он не хотел и не мог ждать. Для него было ясно, что фабрику переоборудовать необходимо:
— Разве можно мириться с обветшалым оборудованием? Хозяйчики, капиталисты — они любили выжимать все до последней капли не только из людей, но и из стен и машин… Мы, товарищи, строим социализм. Нам нужна настоящая рационализация. Самые новейшие усовершенствования. Первый сорт… Мы нонче затратим деньги, а польза будет позже, по прошествии времени… И нечего пугаться, что она не выскочит вот этак сразу. Говорю, по прошествии лет… Потому мы строим, не на один год, а на предбудущее…
Большинством предложения Андрея Фомича были одобрены.
Бумагу из центра пришили к делу. И когда в конторе перекладывали ее из папки в папку, по конторским столам — от стола к столу — летела полурадостная тревога:
— Ну, влетит!.. Не поглядят, что коммунист… Ведь это прямое неподчинение.
— Прямо сказать — бунт!..
— А за бунт по головке не погладят…
Плескач оторвался от своих книг, отложил осторожно в сторону перо, кашлянул:
— Большие могут быть нам всем неприятности и беспокойства…
— А мы причем?
— Нас не касается…
— Нет… Ни в коем случае!.. Не касается…
Бумагу пришили к делу.
А работы продолжались. Каменщики клали кирпич за кирпичом. Росли стены. В длинном новом корпусе вырастала и ползла в длину огнеупорная печь. Вокруг нее ходил с деловой озабоченностью весь измазанный в глине, запорошенный пылью и песком Карпов. Он спорил с десятниками, подходил к рабочим, оглядывал каждый кирпич, каждый камень. Он весь уходил в чертежи, в вычисления, горел, настаивал, огорчался, когда привозили из кирпичных сараев плохой материал, радовался и расцветал при виде удачной и быстрой работы.
Но, уходя со стройки на фабрику, попадая в старые корпуса, Карпов Алексей Михайлович тускнел, сжимался и настораживался.
В корпусах почти в каждом цехе его встречали холодно и порой насмешливо. В старых корпусах настороженно ждали каких-то событий, центром которых должны стать Карпов и директор. Но директор, Андрей Фомич, был свой, он пришел сюда с мозолистыми руками, с невытравимой копотью от горнов и печей в каждой поре его сильного тела. Андрей Фомич, как свой, имел право на иное к себе отношение. И с ним рабочие, те, кто недоброжелательно, недоверчиво и неодобрительно относились к стройке, разговаривали напрямки. С Карповым же не разговаривали. При нем не говорили о фабричных делах, о строящейся печи, о новых стенах. При нем молчали. Но стоило только ему пройти мимо рабочих и скрыться за дверью, как вспыхивали то здесь, то там, как короткие разряды грозы, возгласы:
— Строитель!..
— Выше головы хочет прыгнуть…
— На нашей фабрике старается умственность свою высказать… Казенных денег ему не жаль, он и строит…
— А выйдет ли что, ему и горя мало. Отвечать-то другому придется…
Другие рабочие, те, которых так же, как и Андрея Фомича и Карпова, увлекала мысль обновить фабрику, вступали в спор с отрицателями и маловерами. Работа приостанавливалась. Мастера и табельщики охали и ругались.
В цехах в такие мгновенья шумело и гудело, как в раздраженном, потревоженном улье.
III
Однажды Карпов, проходя со стройки по цехам, зашел в глазуровочное отделение.
За столами, запорошенными белой пылью, у широких бадей с глазурью сидели женщины и работали.
Быстрым и легким движением работницы брали со столов посуду и обмакивали ее в бадью, а обмакнув, ловко встряхивали и ставили на длинные стойки. Они работали дружно, молча, только изредка обменивались парою слов с соседками по работе.
Карпов медленно прошел вдоль столов и остановился перед молодой работницей, руки которой проворно хватали посуду и обмакивали ее в глазурь.
Та подняла на него глаза и улыбнулась.
— Хорошая глазурь? — подумав и слегка смущаясь, спросил Карпов.