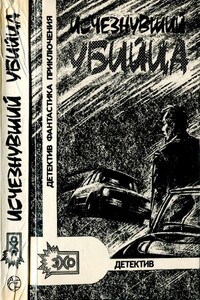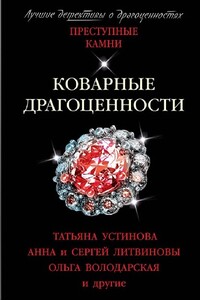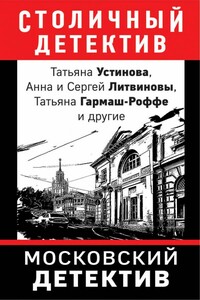Из поры юношества я помню одну ночь, вернее ранний рассвет. В гимназии у нас был вечер–спектакль. Ставили «Майскую ночь». Девушки–русалки, все в бледно–голубой фате, отчего они казались прозрачными, двигались по сцене в неслышном хороводе. И как издалека слышалось заглушённое — унылая свирель. У меня захватило дух от потрясающего сочетания чуть слышной печальной музыки и бесшумного хоровода прозрачных девушек. Задыхаясь, я выбежал на улицу. Был или конец марта, — или начало апреля. Звонкий утренник тихо пощелкивал, вымораживая лужицы. Даль бледнела.
У меня, видимо, кружилась голова. Но тогда я отчетливо чувствовал, слышал, воспринимал и видел, как весь этот голубой прозрачный хоровод вместе с музыкой спустился ко мне, окружил меня в своем неслышном танце. Музыка стала еще глуше, а девушек внезапно появилось множество, как снежинок.
Вот это видение всю жизнь для меня служило каким–то спасательным якорем. Казалось, вот–вот пройдет буря, прорвется какая–то временная пленка, заслоняющая от меня мою настоящую жизнь, и я вновь услышу тихую радость свирели и увижу бледно–голубой хоровод девушек–снежинок.
Но сейчас вдруг чувства мои стали плоскими, невоспринимающими, засаленными, подобно клеенке с трактирного стола. И уже не радость, а злобу и тоску вызывает у меня наивный басок гимназиста–поэта, декламирующего о камышах, о песне, о сильном царственном лебеде. И уж не волнует меня ветер, свистящий в куге, и далекий стон ломающихся камышинок.
Я вспоминаю чье–то изречение: «Если у человека атрофированы чувства, ему уж нечего делать на земле».
Эта вздорная мудрость напугала меня. Я пытаюсь убедить себя в обратном. Есть слова, которые всегда ранят меня в самое сердце. Я произношу их:
…С плачем деревья качаются голые…
Но они уж стерлись для меня. И им уж недоступно восприятие. Я навеки обернут непроницаемой, липкой клеенкой с трактирного стола.
…С плачем деревья… качаются голые…
Внезапно мне кажется, что со всех сторон я окружен темным девственным лесом. Люди — существа, подобные мне, — исчезли вовсе, а может быть, их никогда и не было, и я обречен долго жить среди незнакомых мне, прячущихся от меня существ и умереть, так и не увидев ни одного человека.
Я проваливаюсь в узенькую бездонную щель первобытной тоски.
Я задыхаюсь, задираю к небу голову, вскидываю руки и вновь кричу:
…С плачем… деревья… качаются… голые…
Что–то легко упирается мне в грудь с правой стороны… Я гляжу на это «что–то» и лишь через несколько секунд соображаю: это бамбуковый шатур, который мне подарил Андрей Фиалка. Он висит у меня на поднятой руке, упираясь нижним концом мне в грудь. Прикосновение постороннего предмета пугает меня. Я опускаю руки и хочу снять с руки наручник палки. Меня окликнул китаец, и я прихожу в себя.
Китаец кривит свою желтую рожу. Он хочет выразить мне свое сочувствие. Молиться на меня он готов за то, что я веду его к большевикам, в легендарную страну Россию — Ленин.
— Капитана, твоя шибыка скушна, — восклицает он и повторяет: — Шибыка, шибыка скушна…
Наотмашь я ударяю его по лицу. Китаец падает и визжит. Нас окружают люди. Мне становится страшно от их молчаливого ожидания. Я чувствую неотвратимую потребность оправдаться перед ними и говорю, указывая на корчащегося китайца:
— Андрей, надо покончить с ним.
— А за што? — спрашивает Андрей.
Я достаю письма Павлика и многозначительно потрясаю ими. Я хочу сказать, что мне сообщают о китайце как о большевистском шпионе, но вовремя вспоминаю, что такой отчет подорвет мой авторитет начальника.
— Не твое дело спрашивать! — кричу я.
Это мгновенно приводит моих людей в повиновение. Даже Андрея Фиалку.
— Нечем, сокродье, — оправдывается он, беря под козырек.
Несколько голосов поддерживают его:
— Фиалке теперь нечем. Чем же ему, Фиалке, теперь?.. Инструментину он свою даве обронил.
Оглядывая людей, я разыскиваю цыгана. Я хочу показать Андрею Фиалке, что не нуждаюсь больше в нем. Сейчас он поймет мое намерение и тогда сразу найдет чем.
Своего страшного «первенства» Андрей Фиалка не уступит никому.
Но дядя Паша Алаверды спрятался от меня. На глаза мне попадается гимназист–поэт. Я подзываю его и, указывая на китайца, говорю: