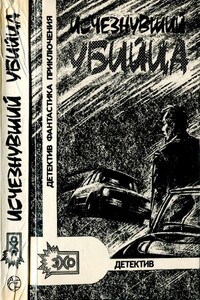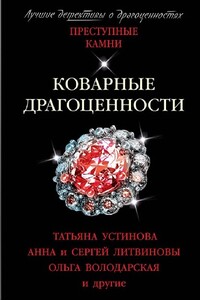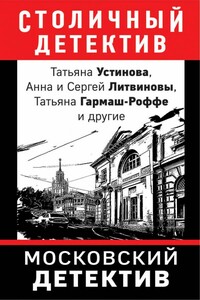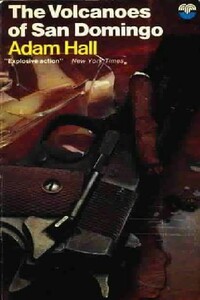Хозяин и его люди смотрят на нас с напуганным изумлением. Несколько дней назад Артемий договорился с ним, что все это спрятанное — есть контрабанда, в которой якобы принимают участие «видные люди». Артемий и сам простодушно верит, что он обманул хозяина. Но я знаю другое. Китайца, хозяина тридцати бакалеек, Артемию не обмануть. Тем не менее Артемий кричит хозяину:
— Говорил тебе, загогулина кривая, что купеза шанговый приедет за товаром!
День приходит к концу. В багровой натуге солнце уходит за сопки. Я слышу, вернее я чувствую, далекие и холодные всплески Гана.
Все окружающее человек воспринимает в зависимости от своего настроения. Мне чудится, что темные воды Гана неслышно плачут и лишь изредка, не сдержав своей лютой тоски, всхлипывают.
И кажется, никто больше, кроме, мутного разлива печальной реки, не плачет обо мне, о нас.
Ко мне подходит харбинский гимназист–поэт: этот глиста понял мое настроение. Обращаясь ко мне, он говорит декламаторски:
— А вдали, чуть слышно, молится река…
Я не замечаю его и говорю Артемию:
— Возьми в передке «томсон» и диски.
Потом прыгаю на лошадь.
Андрей Фиалка понял это как сигнал.
Он собирает всех людей с бакалейки и усаживает их на нары. С лошади я вижу в окно, как хозяин пытается что–то сказать на ухо, но Андрей неумолим.
Я выстраиваю людей и командую:
— По коням!
Звук команды будит во мне боевую бодрость. Я кричу цыгану:
— Иди к Андрею!
Цыган понял меня. Он уходит в фанзу и на ходу вкладывает в «томсон» диск с патронами. Там раздается какой–то визг, потом плач ребенка, и затем я слышу, как цыган говорит Андрею Фиалке:
— Ребеночка зачем?.. Ребеночка зачем?
Потом затрещали сливающиеся выстрелы. Снова я тихо подъезжаю к окну. В нем темно. Слышится только плач ребенка. Цыган зажег лампу, поднял с полу ребенка и неумело закутав его в какое–то тряпье, зажал этот живой сверток под мышкой.
Андрей Фиалка «проверяет». Толстый хозяин в предсмертной судороге дрыгает кривыми ногами. Андрей наносит ему несколько ударов в живот, под ложечку.
Андрей смотрит китайцу в лицо, потом слюнит указательный палец и тычет китайцу в глаз. Я знаю это вернейшее средство «убедиться». Если глаз под сырым пальцем не дает реакции, не моргнет, значит — кончено.
Андрей снимает толстое золотое кольцо с руки хозяина, повертывается к цыгану и, глядя на ребенка, нерешительно гудит:
— А и дура–мама, ну куда его теперь?
Я отъезжаю и говорю Артемию:
— Зажигай.
Артемий проворно подбегает к отряду и кричит:
— Огневики, выходи!
Пятеро спешились. Быстро растаскивают сено. Цыган и Андрей выходят из фанзы. Андрей подходит ко мне и дарит мне бамбуковую палку хозяина.
— С началом, скородье! — оживленно и даже радостно кричит он.
С ременным наручником палка очень увесиста и удобна. Я ощущаю неодолимое желание стукнуть ею кого–нибудь по голове, испробовать.
Весьма кстати зарекомендовать себя сразу же.
Вспыхивает пламя. Вглядываюсь в лица людей, я разыскиваю гимназиста–поэта. Сейчас я придерусь к нему и огрею его бамбуковым шатуром.
Но на глаза мне попадается китаец. Он приветливо улыбается. Он страшно смешон в красноармейском шлеме. Я подъезжаю к нему ближе, и он сам высовывается вперед и бормочет;
— Капитана, моя шибыка большевик…
— В строй! — гаркнул я и наотмашь огрел его по голове.
Самое приятное в бамбуковой палке — это двойной удар. Стукаясь о голову, она как бы сама подпрыгивает и уж сама ударяет еще раз.
Потом я говорю людям:
— В случае тяжкого ранения придется добить.
Все поняли, что слово «тяжкое» тут совсем лишнее. Захватим мы лишь легко раненных.
Несколько голосов повторяют, подобно суровому эху:
— Придется добить.
— Я прямо скажу — приходится добить, — решительно подтвердил Андрей.
Пламя охватывает бакалейки. Становится жарко. У нас еще есть время, и я приношу первую жертву отряду: люди спешились и разбрелись подбирать «кто что». Это очень щедрый, богатый подарок.
Мы закусываем советскими консервами и вытираем руки о советские газеты. Банки из–под консервов и газеты мы бросаем так, чтоб они не попали в огонь. По нашим следам поедет «следственная комиссия» с иностранными «нейтральными» свидетелями.