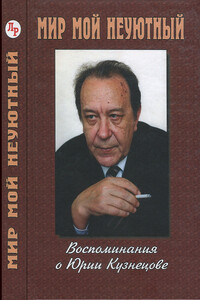И хотя Аро был на какое-то время оттеснен от торговли с Индией, ему удается в 1500 году снова послать туда два корабля с эскадрой Педру Алнариша Кабрала. Судя по записям в Конторских книгах, то плавание окончилось для Аро потерями, но в не был настроен на мгновенные выручки. Он продолжает терпеливо вкладывать деньги в морские предприятия и скоро снаряжает пятнадцать кораблей, связавших его лиссабонскую фирму с торговыми факториями в Восточной Африке, Индии и Малакке.
Владелец этих кораблей — умный, смелый купец. Он финансирует также предприятия, прибыль от которых можно получить только через отдаленный срок. Так, мы узнаём из уже упомянутой «Копии последних известий из страны Бразилия, что «Хртостофель де Аро и другие <снарядили и вооружили корабли>. посланные тогда на исследование Южноамериканского побережья. Через много лет король Мануэл избавляется от своего могущественного кредитора. В ходе событий, прояснить которые не представляется возможным, были потоплены португальской эскадрой у Западноафриканского побережья семь кораблей де Аро. Купец тщетно требует возмещения, но в конце концов оказывается достаточно мудр, чтобы вернуться к себе на родин’. Это происходит в тот момент, когда Магеллан прибывает в Севилью. План западным путем достичь островов Пряностей должен был показаться обманутому судовладельцу даром небес. И в самом деле, план — единственная возможность снова занять господствующее положение в торговле дальневосточными товарами. Поэтому нет ничего удивительного, как впоследствии сообщил секретарь императора Максимилиан Трансильван, что Аро не позволил никому другому отстаивать дело Магеллана и Фалейру перед королевским советом. Он же потом убедил Фуггера предоставить Карлу 1 заем в 10 000 дукатов. Он сам вносит долю в размере 1,6 миллиона мараведи и уговаривает Алонсо Гутьерреса, казначея Севильи, и других состоятельных людей города принять участие в финансировании плавания.
Следует заметить, что денежный дождь, на который рассчитывали кредиторы в случае удачного завершения плавания на Молукки. пролился довольно нескоро. Семейство Аро должно было провести изнурительный процесс против короны, прежде чем спустя почти два десятилетия оно получило положенную им долю. Фуггеры же не увидели ни одного дуката. Тем не менее можно быть уверенными, что они не упустили своего в каком-либо другом случае.
Итак, несмотря на то что план Магеллана и Фалейру в кругу Аро и Гутьерреса с готовностью приветствуется, его надо еще и отстоять на королевском совете. Ведь закон, естественно, запрещает частные плавания, и только король решает, состоится ли плавание и кто будет его финансировать. Вообще-то финансируют такие предприятия, притом почти всегда. представители величества но это обстоятельство охотно замалчивается и, конечно же, не может быть понято до конца многими коронован— и особа и феодальными магнатами.
Какими средствами воспользовался Магеллан, чтобы наиболее наглядно продемонстрировать свою идею, мы узнаём из свидетельств многих его современников. Например, Антонио Пигафетта сообщал о заявлении Магеллана, что тот видел в лиссабонском архиве карту Мартина Бехайма, где указан искомый ПРОЛИВ. Хронист Антонио де Эррера (1549–1625) утверждает следующее:
«Когда Магеллан в первый раз появился при испанском дворе В Вальядолиде, он показал епископу Бургосскому разрисованный земной шар, на который он нанес маршрут своего предполагаемого путешествия. При этом пролив он намеренно оставил белым, чтобы нельзя было проникнуть в его тайну. Когда королевские министры засыпали его вопросами, он им поведал, что намерен поначалу причалить к берегу у предгорий Санта-Марии, то есть у устья Ла-Платы, и уже оттуда следовать вдоль побережья, пока не найдет пролив… Он добавлял, ч-го тем паче уверен найти пролив, что видел его на морской карте. составленной Мартином де Боэмиа, португальцем, космографом высокого мастерства. родившимся на острове Фаял. Эта карта дала ему много разъяснений по поводу того пролива» (цитируется по Хеннигу).
Эррера ошибся, когда принял нюрнбержца Мартива Бехайма (1459–1507) за португальца с острова Фаял из архипелага Азорских островов. Мартин Бехайм, прибывший в Португалию в 1484 году и на следующий год принявший участие во втором плавании Дьогу Кана, на самом деле только многие годы жил на этом острове. И нет ничего невероятного в том, что карта, похожая на описанную, действительно существовала, она даже могла быть выполнена Бехаймом. Но все-таки более вероятно, что Магеллан видел карту, каких около 1515 года было много, изображавшую пролив в манере Шёнера. Какое малое значение придавал Магеллан как этой карте, так и многочисленным слухам о поисках прохода на запад, показывает приводимая цитата. Она принадлежит будущему епископу, историку и <апостолу индейцев> Бартоломе де Лас-Касасу (1474–1566).
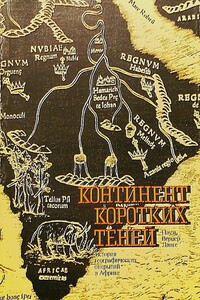


![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)