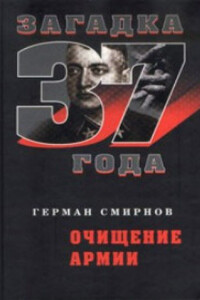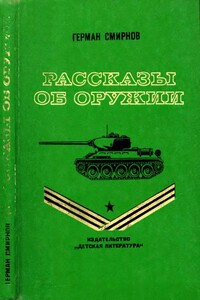ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОРОДА
Научные теории подобны мышам, утверждал некогда Вольтер. Как мышь может счастливо проскочить девять мышеловок и попасть в десятую, так и научная теория, удачно объяснившая девять фактов, может быть опровергнута одним-единственным десятым. Эксперименты баварского министра внутренних дел графа Румфорда как раз и оказались такой «десятой мышеловкой» для теории теплорода.
XVIII век вошел в историю физики как эпоха невесомых материй — импондерабилий. Будучи не в состоянии найти хоть что-нибудь общее в механических, оптических, электрических, магнитных явлениях, ученые тех времен с большой легкостью плодили всевозможные материи и жидкости — электрическую, магнитную, световую и т. д. Убедившись в безрезультатности всех попыток взвесить их, они пришли к выводу, что жидкости эти — невесомые. Была придумана соответствующая жидкость — теплород — и для объяснения тепловых процессов. Нужно признать: теплород сослужил хорошую службу науке. Он внес известный порядок в хаос накопленных к тому времени фактов. Он позволил выделить из массы явлений окружающего мира явления чисто тепловые. Следуя теории теплорода, плеяда блестящих экспериментаторов заложила основы современной калориметрии. И вольно или невольно мы и по сию пору отдаем дань уважения достижениям этой теории, когда произносим терм-ины «теплоемкость», «теплопроводность», «теплота парообразования», «теплота плавления». Но был один факт, который вызывал смутное беспокойство у сторонников теплородной теории. Факт этот — выделение теплоты при трении. Чтобы не отказаться от множества объясненных с помощью теплорода явлений, ученые попытались приспособить теорию и для толкования этого процесса.
Первое, что пришло им в голову, — рассматривать нагрев при трении как «выжимание» теплорода из тел. Позднее они стали более тонко объяснять этот эффект уменьшением теплоемкости при трении, а образование теплоты — освобождением теплорода из химически связанного состояния. Все это получилось так удачно, что из факта, противоречащего теории, трение превратилось в факт, подтверждающий ее.
И вот на тебе: Румфорд поставил опыты, убийственные для такой удобной теории. Он доказал: трением двух тел можно получать большие, быть может, даже неограниченные количества теплоты. Его эксперименты лишили хитроумные объяснения приверженцев теплорода всякого смысла. Убедительности румфордовских опытов способствовали их поистине министерские масштабы. Вместо пробирок, реторт, жаровен, характерных для научных лабораторий тех лет, баварский министр пользовался сверлильными станками, пушечными стволами и конями-тяжеловесами мюнхенского цейхгауза.
В одном из опытов тупое сверло, прижатое к бронзовой болванке с силой 4500 кг, уже через 30 мин, сделав всего 960 оборотов, нагрело ее почти на 40 °C. Откуда берется такое огромное количество теплоты? «Выжимается» из стружек? Но их слишком мало. Может быть, из воздуха, поступающего внутрь отверстия при сверлении?
Чтобы закрыть доступ воздуху, Румфорд поместил весь прибор в сосуд с водой. Медленно, со скоростью всего 32 об/мин начало вращаться сверло, и спустя два с половиной часа к величайшему изумлению окружающих вода в сосуде начала кипеть. Это убедило Румфорда в том, что из тела можно получать теплоту в неограниченном количестве «без перерыва или пауз и без всяких признаков ослабления или истощения». А такой вывод никак не мог быть увязан с теорией теплорода: то, что в неограниченном количестве может быть получено за счет движения, само должно быть движением. Следовательно, тепловые явления — явления движения.
И все-таки можно понять нежелание ученых признать опыт Румфорда. Невесомые материи сыграли очень большую роль не только потому, что позволяли произвести какую-то классификацию физических явлений. Оказывается, они позволяли довольно точно описывать явления до тех пор, пока не происходило взаимных превращений одних форм движения в другие, пока изучались процессы чисто электрические, чисто оптические, чисто тепловые. Поэтому вплоть до наших дней сохранили свою научную ценность данные электростатики, геометрической оптики, калориметрии, полученные на основе невесомых жидкостей еще в XVIII веке.