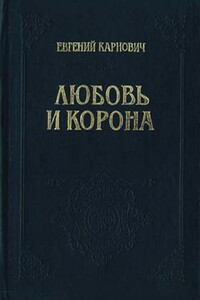— Ежели я терплю — тот, кто платит вам, — то уж вы-то, от меня плату получающие, терпеть обязаны! Для солдата повиновение, дисциплина — прежде всего, без этого нет войска! — кричал он.
И все понимали, что он прав, даже подвешенные, слезно, но безуспешно молившие о пощаде: до утра их так и не отвязали.
Пример этот жил в памяти воинов, никто не желал оказаться новым страдальцем, поэтому все спешили из последних сил.
Быстро спускался вечер, окутывая их все более темным покрывалом, звезды не светили на небе, не видно было и луны, только поблескивал слегка снег. Вокруг все выглядело безжизненным, навевало тоску, — необходимо было хоть какое-то утешение в этот потонувший в мучительной гонке предновогодний вечер, и вдруг где-то из середины войска родилась песня:
Куда едешь, куда скачешь, солдатик?
Что так бледен, чуть не плачешь, касатик?
Оттого солдат наемный так бледен,
Что до милой не доскачет, не доедет…
Две последние строки они повторили, а потом запели дальше:
Ох, до милой не доскачет, не доедет —
То-то он, солдат наемный, так бледен.
А еще он оттого чуть не плачет,
Что солдата смерть в дороге обскачет…
Они снова повторили последние строки, а потом грянули последнюю строфу:
Ох, солдата смерть в дороге обскачет —
То-то он, солдат наемный, чуть не плачет.
Смерть ему последний талер заплатит! —
То-то бледен так наемный солдатик…
[8]Конечно, не слова песни, а скорее разудалый напев ее веселил сердце, — ведь песня, она и есть песня, а человеческая печаль, хотя и печаль, да все ж не такая, какую навевал этот сгинувший в зиме край, — и окоченевшие души немного оттаяли. Однако и петь долго не пришлось: бан, ехавший впереди, пустил копя рысью, и воины должны были последовать его примеру, если не хотели отстать; дорога же была скверная, и трясло так, что звуки песни срывались с губ вразнобой, как бы отталкивая друг друга. Люди вновь умолкли, все внимание отдав дороге.
Давно уже наступила ночь, когда, вынырнув из-за очередного холма, они увидели наконец на раскинувшейся впереди равнине красные маки лагерных костров: то была окраина Ракоша. Еще один захватывающий дыхание бросок, и отряд Хуняди подскакал к кострам.
Бан тотчас же отдал приказ разбить лагерь, а сам, узнав, где расположился воевода Уйлаки, в сопровождении Янку и Михая поскакал туда. Как обычно, у шатра Уйлаки стояли на страже алебардисты, но сейчас их вид не раздражал Хуняди: он испытывал теплое, доброжелательное чувство к воеводе. Оставив коней стражам, они вошли в шатер. Их встретили громкими веселыми восклицаниями:
— Бан прибыл!
— Виват Янко Хуняди!
— Сдержал слово, все же к новому году приехал!
Помимо воеводы, в шатре находились Петер Перени, Шимон Розгони, Понграц Сентмиклоши и еще несколько человек, Хуняди незнакомых; с неизменными кубками они возлежали на шкурах, а посередине шатра в котле подогревалось вино. Уйлаки, лениво лежавший на шкуре, поднялся навстречу вошедшим:
— А ты слово держишь, достойный бан!
К сердцу Хуняди прихлынула радость, когда он остановился перед крепким красавцем Уйлаки. А Уйлаки, гордый, надменный Уйлаки, обнял бана.
— Налей господам, да поскорее! — приказал он своему оруженосцу, а затем и сам взял кубок в руки и громко выкрикнул:
— Виват польскому князю Владиславу! Виват венгерскому королю Уласло!
— Виват Владиславу! Виват Уласло!
Все выпили. Виваты следовали один за другим: в честь нового года, потом в честь Уйлаки, бана и всех по очереди. И за каждого пили вино. У Хуняди с обеда, с полудня, куска во рту не было, да и вообще он плохо умел пить, вино сразу ударяло ему в ноги и голову. В иное время, выпив, он становился печален, ему хотелось плакать, однако теперь хмель быстро развеселил его: он смеялся всему, смеялся громко, хохотал во весь рот. А когда появился бандурист и господа затянули лихую быструю песню, он вспомнил старину и пустился в такой бешеный пляс, что чуть шатер не обрушил. Господа пели, хлопали в такт ладонями оземь и восторженно выкрикивали:
— Вот подлинно рыцарская удаль!
— От самого Хуняда на коне прискакать и плясать еще!
— Этак и молодой не каждый сумеет!