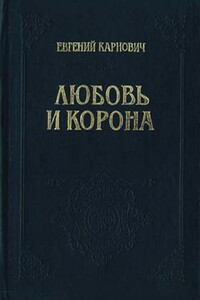— Да, такая натура, — успокоительно произнес Витез.
— Частенько я себя спрашивал: может, к другому она бы теплее сердцем была? Но пожаловаться на нее не могу. Живет только ради сынов наших, и лишь одно ей интересно — что я для них нажить способен.
— Настоящая мать!
— Только мне и жену настоящую хотелось! — тихо произнес бан.
— Кого чем бог наделил, господин бан. С господом не поспоришь!
— Да я и не спорю с господом, благодарен ему и за то, что он меня ею наделил. Я ведь ее всем сердцем люблю, как уж там ни есть.
— И она тебя любит. По-своему.
— Скажи, Витез, по совести, ты так об этом и думаешь всегда, как говоришь?
— Так и думаю.
— А я ведь ради нее все совершу, что только в силах моих, — сказал бан, воодушевленный и успокоенный.
Витез с кроткой улыбкой глядел на этого седеющего большого ребенка, и доброе, теплое чувство — будто он подаяние дал — охватило его сердце. Он и сосчитать не мог, сколько раз возобновлялся этот разговор, почти в одних и тех же выражениях. И всякий раз его искушало намерение не лгать больше Яношу, откровенно все рассказать, но при виде этого трогательно непосредственного, детского одушевления Витез так и не находил в себе силы вымолвить решающее слово. Этот бесхитростный, неиспорченный воин не понял бы его, но сказанных слов оказалось бы достаточно, чтобы разбить ему жизнь. И не было ли бы это большим грехом, нежели ложь умолчания? Да и что мог он ему сказать? Рассказать можно лишь о случившемся, а не о чувствах, проскользнувших в нескольких жестах и взглядах…
— Свершай, господин бан, что можешь, но не так неразумно, как на утреннем совете!
— Об этом я и хотел с тобой потолковать.
— Господин король Альбрехт рассердился на тебя. Я едва мог умерить его гнев. Тебя он любит, знает, как ты полезен, но и родича своего, Цилли, оттолкнуть не хочет. Ничего не, поделаешь, через родство, как говорится, не перешагнешь. Не забывай этого!
— Я не забываю, как и того, что Цилли вечно ко мне вяжется.
— И ты так поступай, но тонко, как он. Теперь я и не знаю, что будет: вельможи хотят побыстрее совет закончить да по домам разъехаться.
— А кто ж на турок пойдет?
— Хотят на весну отложить.
— Потом на осень и снова на весну. Покуда турок до Буды не дойдет, — вскричал бан. — Я-то уже не раз в битвах с ним встречался. И знаю наверное: если вовремя не выступить против него, после можно и не устоять…
— Я всего-навсего бедный писарь, — пожал плечами Витез. — Пишу, что велят, моих же слов никто себе на лбу не записывает. Да и в сердце тоже. Мне ты напрасно будешь душу выкладывать.
— Сатане, что ли, выложить? Ведь никто здесь об этом и не думает…
— Поди к воеводе Уйлаки. Турок Мачу и Серемшегу угрожает. Уйлаки непременно за союз будет…
— Мне идти? — вскричал бан. — Мне к нему? Уж лучше пусть турок приходит!..
А вечером, когда на лагерь опустились сумерки, он верхом, в сопровождении Янку и Михая Силади, трусил по дороге, ведущей к Тисе, к лагерю Уйлаки. Шли они небыстрой иноходью, ибо в темноте не видно было ухабов под ногами коней, а они не хотели сломать себе шею либо явиться к Уйлаки в изорванной одежде. Вдоль дороги справа и слева горели в ночи алые маки лагерных костров, легкий ветерок, подувший после заката к устью Тисы, доносил к ним обрывки протяжных и разудалых песен. Из лагеря наместника короля Хедервари, находившегося совсем рядом с дорогой, слышны были им и слова той песни, что затянули воины, сидевшие у крайнего костра:
Знать, меня не повидает мать родная.
И с невестой, знать, не свижусь никогда я:
Вдалеке живу, в сиротстве, их покинул,
Жизнь пропащую я отдал господину…
[7]— Скулят воины-то! — сказал бан. — Словно щенки, потерявшие мать.
Но извечная тоска, выливавшаяся в песне, усугубленная темнотой вечера, захватила Хуняди так, что сердитая его воркотня была скорее попыткой побороть нахлынувшее умиление. Вспомнились прежние вечера в Хуняде, когда они в хорошую погоду выходили позабавиться на сторожевые вышки или посиживали на площадке башни Небойса, слушая печальный свист ночующих в горах румынских пастухов и песни крепостных, струившиеся снизу, как теплый, навевающий дрему воздух душного лета. Действительно так прекрасна была тогда жизнь Или только кажется она такою за давностью лет? Ибо явь настоящего жестока и пуста, неумолимо холодна, и — он это часто ощущает — подавляет она, гнетет его… Чего от него хотят все, почему нападают, враждуют с ним, когда он хочет жить, и только? Вот и Эржебет там, в Хуняде… Может, ради сыновей одних и стоит жить, терпеть все это…