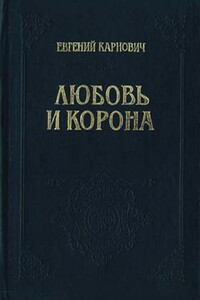— Отец Якоб! Крепостные и прочий бедный люд сиры и убоги. Все живут за их счет, все у них берут, что само по себе не грех, — но ведь сверх меры берут, ничего им почти не оставляя! И нет беднякам мира и покоя, покуда остается у них хоть корзина пшеницы да пара голов скота! Поразишься ли ты, ежели взбунтуются они и разорят страну? Церкви следует о том позаботиться, дабы не вынуждать их к этому!
— Не думай, брат Балаж, что мое сердце из камня. Известно мне о нужде их, и я сожалею о них, печалюсь, однако ересью помочь им нельзя. Церковь для меня — прежде всего; кто бунтует против нее, против меня восстает. И против того я восстану. Ошибки есть, но нельзя же из-за них все уничтожать. Нельзя же из-за жучка древоточца сжечь целый дом, — уж лучше предать пламени окаянных поджигателей… Однако времени в разговорах прошло много! Пора и на покой. Завтра отчитаешься о стаде своем.
Они приготовили себе ложа и легли, погасив свет. Но ни темнота, ни тишина не помогли Балажу уснуть. Столько всего случилось с ним за прошедший день, что он сам не мог дать себе отчета в пережитом. Хотя бы этот разговор с Якобом из Маркин… Испепеляющий, не ведающий сомнения фанатизм монаха произвел на него такое впечатление, что он попросту отдался потоку слов. Что же, собственно говоря, произошло? Допрос это был либо обращение заблудшего? Ибо, хотя о делах, касающихся Балажа, и звука не было обронено, он чувствовал, что каждое слово монаха, каждая фраза обращены к нему… Убедил ли его Якоб из Маркин? Нет, этого нельзя сказать, ведь учения магистра Гуса укоренились в нем значительно глубже, чтобы их можно было вышибить одной-единственной беседой, но… но и сам себя он не убедил… Не о том он думал, не того хотел… А чего же? Желал бороться без борьбы? А вот священник Якоб действует, не колеблясь, ради утверждения своей истины… Балинт?.. «Сокрушим их!» — слышал он сдавленное дыханье портного Ференца. «Завтра дашь мне отчет о своем стаде!..» И Балинту он, наверно, так говорил: теперь Балинт сидит в сельской управе под арестом. Завтра… «Сокрушим их!..», «Веди нас на них, отец Балаж!..», «Из-за жуков древоточцев нельзя…», «Лучше предать пламени окаянных поджигателей!..»
Уже кукарекали в ожидании рассвета петухи, когда Балаж, вконец истерзавшись, забылся сном.
5
Когда наутро село проснулось, занимался прохладный, но ясный осенний день — в такой денек хорошо работается. За ночь ветер прогнал дождевые тучи. Жизнь в домиках с наклоненными крышами и нынче началась как обычно. Во дворах визжал и блеял голодный скот, слышалась ругань обихаживающих его людей. А вскоре на поля и луга потянулись телеги, чтобы привезти домой все, что там еще оставалось. Покачивая головами, медленно брели волы, запряженные в телеги, на которых сонные крестьяне на все корки честили ленивый скот. Они орали, тыкали животным вилы в зад, чтобы заставить их двигаться побыстрее. Разумеется, все это — и проклятья и понукания — было тщетно и бесполезно, но ведь так поступали их отцы, чего ради им теперь не делать того же?
Тем, кто оставался в селе, дел тоже хватало. Лениво и медленно, как и вообще все здесь, приближалась зима, и к ее приходу надо было подготовиться. Исправляли, обмазывали ямы для зерна, а кое-кто уже укрывал их. Мартон на своем дворе затеял выкопать новую яму. Не то что старая не годилась. Этому никто и не поверил бы. Мартон ямы копать мастер, у него никогда еще зерно не подгнивало. Вот то-то и оно! Он нынче такую яму ладил, где зерно хранилось бы, покуда не заплесневеет. Конечно, хлеб, выпеченный из заплесневелого зерна, не особо лакомое кушанье, но и его съедят, если до той поры сохранить сумеют. Пока же большую часть зерна ежегодно уносили солдаты, которые рыскали повсюду в поисках добра, принадлежащего чужим, не их господам. Первым делом они опустошают ямы да угоняют одну-двух коров. Лучше бы, конечно, и скот куда-нибудь под землю запрятать. Мартон давно ломал голову, придумывал, как бы тайный закут смастерить, однако даже ему это не удавалось. Зато яму потайную он сделает. Конечно, и старую оставит, и всегда в ней, немного зерна держать будет, все равно ведь не поверят, что всюду у него пусто, до тех пор драть будут, покуда сам не отдаст. Но большую часть зерна он непременно спасет. Важно только, чтобы никто не узнал об этом, в людях зависти много; предадут — собственный убыток меньше покажется. Ни в коем случае не желал он, чтобы с ним получилось, как прошлой весной с зятем его, сутьорским Михалом Кишем. Тот, как прошли зимние холода и не надо было больше в сенях топить, услышав, что идут солдаты, вздернул на веревках два мешка пшеницы в трубу и привязал их там к балке. И тут же всем встречным-поперечным стал хвастаться хитрой уловкой. А когда на самом деле солдаты пришли, выгребли они зерно, что в яме оставалось, а потом прямиком в сени направились и в трубу заглянули.