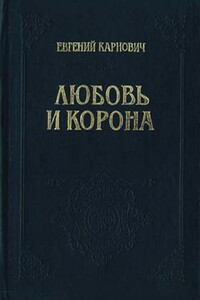— Так брось упрямиться, обратись, стань на путь праведный. Отступись от нелепой веры!
— Нелепой веры я не сторонник, посему и отступиться от нее не могу…
Сигизмунд нервно и нетерпеливо кусал губы, жевал жесткие кончики свисавших в рот усов; рука его все быстрее поглаживала бороду. Он немного помолчал; опершись локтями на колени и опустив подбородок в ладони, исподлобья глянул в лицо священнику, однако в полумраке кельи его черт почти не было видно. Но этот полумрак и тишь одиночества стирали также разницу в рангах между двумя затворившимися в келье людьми; постепенно темнота размыла и цвета одежды и самые очертания тел — в конце концов остались одни голоса. Беседа делалась все более интимной, более откровенной.
— Послушай, священник Ян, — тихо заговорил Сигизмунд. — Поговорим открыто и прямо. Не следует бояться правды.
— Я и до сей поры не боялся ее, государь.
— Что-то я сего не приметил. Но, может, мой пример пробудит и в тебе прямоту. Как думаешь, ради чего я, князь церкви, пришел сюда без всякой свиты к тебе, мелкому церковному служителю, — пришел просить, когда могу повелевать?
— Видимо, гнали тебя, государь, поиски истины, жажда познать ее…
— Истины!.. — повторил Сигизмунд, и по голосу его чувствовалось, что он насмешливо улыбается. — Чудные слова у тебя, чешский поп… Истина… символ веры… веления души… Не слова сами чудны, а то, как ты их произносишь. Я уж и в писаниях твоих это заметил и надивиться не мог. Ведь и я говорю слова те, но у меня они вроде бы иного значения. Очень ты в слова веруешь, легко на них полагаешься. Не думаешь, что они толкают тебя на худое?
— Верую только в бога и через бога в себя!
— Послушай, поп, в себя и я верую, и тоже через бога. Но, может, боги-то над нами разные? Ведь ежели я говорю: истина, — под оной понимаю соглашение с другими, а не борьбу с самим собой. Если б меня на самом деле гнали к тебе жажда истины, поиски ее, как ты сказал, то означает это лишь одно: что я мира желаю! Твои писания и проповеди мне ведомы. Не скрою, многое в них мне по нраву. Ты бы сказал: «В них много истины». Я того не скажу. И даже в том, что по нраву мне кое-что в учении твоем, откроюсь лишь тебе одному. Ибо, скажи я о том громко, дабы услышали многие, не миновать мне борьбы с самим собой — ведь тогда я должен буду на твою защиту стать. А так я сам себе закон, один все решаю. По одну сторону от меня ты стоишь, по другую — властители церкви. К тебе чувство влечет, к ним — государственные интересы. Эх, видишь, однако, что слова-то делают: выходит ведь так, будто вовсе это разные вещи, а они почти одинаковы… Да разве нет государственного интереса в том, что чувства влекут меня к тебе, тому, кто борется против моих приверженцев, всегда готовых свалить меня?! И не чувство ли заставляет меня самого государственным интересам служить, для меня означающим власть над миром? Что ж мне делать с вами-то, которые справа и слева от меня стоят? Соизмеряю я то и это, и дабы по-моему вышло, даже слабейшего потерять не хочу, а к себе беру его и уж тогда становлюсь на сторону сильнейшего. Потому и пришел к тебе…
— Стало быть, я слабейший, так? — тихо спросил Гус.
— Видишь: я у тебя…
Оба недолго помолчали, потом заговорил священник. В тоне его уже не слышалось того почти показного упорства, необоримого, все отвергающего упрямства, с каким он только что отвечал императору, и волнующая душевная теплота пронизывала каждое его слово.
— Теперь, коли дозволишь, великий государь, и я тебе правду свою поведаю. Не знаю, много ль тебе обо мне известно. Может, лишь то, что я чешский священник, еретических учений провозгласитель. Может, видишь, куда я иду, но не ведаешь, откуда пришел. Родом я из нищих краев, я — дитя бедности. Родители мои, убогие крепостные, жили под Прагой, на земле немецких господ. Скудость, нищета, все хвори телесные губили наши жизни, и помещик и церковь равно угнетали нас. Единым утешением нашим было — ежели то может утешением служить, — что не одни мы бедствуем, ибо все вокруг нас жили в такой же нужде. Да и не утешение это было, а тепло стада, сбившегося в кучу, чтобы отогреться… И еще одно утешение было у нас: вера в господа, который возлюбил сирых. Веру эту мы умели совершенно отделять от церкви, что терзала нас и на наших глазах покрывала неверие и порок… впрочем, и церковь умела полностью отделять себя от веры… Так мы жили в гнездовьях бедности, и было нас множество, все крепостные. Когда же удалось мне все-таки вылететь из того гнезда на своих не раз покалеченных нуждою крыльях, я пошел в служители веры и целью жизни поставил примирение церкви с верою, дабы родителей моих и братьев моих примирить с церковью. Я хотел вернуть церкви дух и суть христианства, чтобы вновь она стала тем, чем некогда была: покровительницей бедных, а не прикрытием лжи и греха… Это и стало правдой моей, коей я жизнь свою посвятил. Как и ты, государь, я желал примирения, все мои учения, писания, проповеди на то направлены — но вот я все же попал сюда, заключен в ожидании приговора…