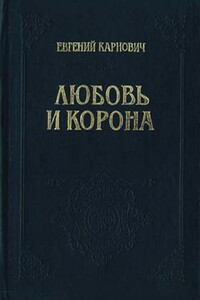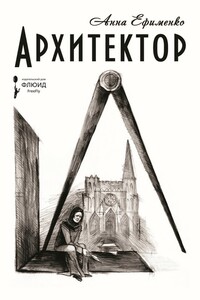— Слава императору! Слава Сигизмунду! — кричал Янко вместе со всеми. И тут же: — Слава императрице! — когда появилась нарядная карета, везущая королеву.
Все остальное — приветственные речи, вновь и вновь повторявшиеся бурные клики, здравицы в честь Сигизмунда — слилось для него в каком-то головокружительном, пьянящем забвении, и очнулся Янко от этого дурмана, лишь когда шествие стало рассеиваться и все двинулись на отдых к отведенным для постоя местам. Тогда он вспомнил, что еще не видел отца, и, замешавшись в разбредавшуюся толпу, пошел отыскивать своих.
После долгих поисков он все же разыскал и отца и Радуя: они стояли в дальнем углу площади возле лошадей, толкуя со стремянными, и буквально остолбенели, не веря ни глазам своим, ни ушам, когда Янко поздравил их с рождеством.
После радостных объятий отец спросил со счастливым смехом:
— Откуда ж ты взялся? Я думал, мы с тобой только в битве встретимся, врагами. Ты воин деспота, я — короля…
— Потеснил бы я вашу милость! — смело и весело ответил Янко.
— Ишь ты, ишь ты! И впрямь потеснил бы, вон ведь какой славный витязь вымахал с той поры, как я тебя не видал!
Так подтрунивая, старые воины в сопровождении Янко направились к отведенному им месту для ночлега и сразу набросились на еду. Янко только дивился богатырскому их аппетиту, а они между делом все поглядывали на него.
— Ну и ну! — ткнул племянника в бок Радуй, ухмыляясь во весь лоснящийся от жира рот. — За два-то года у тебя усы выросли. Того и гляди, за уши станешь их заворачивать.
Янко со смущенным смешком покрутил под носом реденькие короткие волоски и, чтобы перевести разговор, начал высокопарно восторгаться дивным вечером.
— Черта он дивный! — проворчал отец, проглотив очередной добрый кус. — По мне, так препоганый. Я весь иззяб в здешней слякотной зиме, поясница и колени так и разламываются. Подагра проклятая снова замучила. Эх, сидеть бы сейчас в своем углу, в Хуняде…
— А ты угости свою подагру добрым немецким винцом! Видано ли дело — витязь-подагрик? — сказал Радуй и налил всем троим, потом обратился к Янко: — Ну, а ты, дружище, оказал уже честь немецким девицам?
Янко хотел было ответить шуткой, но отец перебил его:
— Нынче о том не пытай, вечер-то рождественский. Не пристало об этаком в праздник беседовать.
— Верно! — ткнул себя пальцем в лоб Радуй. — Завтра ведь рождество! В столь великой сутолоке все на свете позабудешь. Ну, да ладно, попытаю после праздника, а у тебя будет времечко подумать.
Больше о рождестве ничего сказано не было, по и этих скупых слов оказалось достаточно, чтобы в душах собеседников воцарились умиротворенность и благолепие. Словно мягким покрывалом приглушило наступавший на них отовсюду шум: громкий смех непристойного веселья, забористые шутки, ворчливую брань, — погруженные в себя, они продолжали тихо беседовать.
— Что-то нынче там, в Хуняде, твоя мать поделывает? — задумчиво проговорил витязь Войк. — По правде сказать, я бы охотно бросил по странам бродяжить. Сидел бы безвыездно дома. Ничего не поделаешь, старость вгрызлась мне в кости, душой и телом жажду покоя.
— Думаешь, дома найдешь себе место? — спросил Радуй. — Ты всегда так: уехавши, вернуться желаешь, а вернешься — стонешь, только и знаешь, что на сударыню-сестрицу ворчишь.
— Тебе это мудрено понять, Радуй! Вот уже и состарился ты, а законной жены никогда у тебя не было. Ведь оно как бывает. — Отец глянул на Янко, словно говоря: «Ты уж не малое дитя, можно и при тебе сказать». — Человек никогда не довольствуется тем, что есть у него, по, потерявши, сразу видит, что только оно ему по-настоящему и дорого. Мне многие недостатки супруги моей ведомы. И скуповата она, и вечно себе на уме, и мыслей моих никогда не понимала. Частенько я с ней ссорился, что греха таить, а вот поди ж ты, тянет меня в тепло ее постели, в каких бы постелях ни леживал…
Старик отхлебнул уже три-четыре глотка, но на сей раз вино, обычно толкавшее его на буйство и шутливое сквернословие, пробудило в нем вдруг жажду покаяния.
— Нас ведь с ней не сердечные узы свели, а отцы паши, тебе-то хорошо это ведомо, Радуй. И не раз после того дорожка моя в сторону петляла. Но великий ли, малый ли крюк я давал, все равно к ней возвращался…