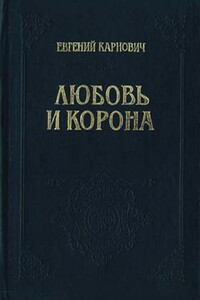— Не столкуюсь! Все свои силы против них выставлю, но не пойду на сговор! Какое уж тут согласие между огнем и водой? Ведь ежели я когда и считал себя огнем, они всегда водой становились. И ныне согласие было бы только в том, что вода залила бы огонь. А потом они станут друг друга заливать, но против главного врага, против турка, ни один из них не выступит! Им только своя власть важна, а не служба стране. Подняли они хоть раз саблю против язычников? А я против турок выстою и, ежели придется, против них тоже!
Затем он продолжал, но уже тише:
— Что с тобой приключилось, брат Янош, откуда в тебе столько опаски, что уж со всеми договора ищешь, сторговаться хочешь? Или то старческий страх да слабость говорят в тебе? Или желаешь всесторонне путь себе обеспечить, что вверх ведет?
Епископ Витез вдруг затравленно вскинул голову, будто хотел протестовать, даже рот уж открыл, но сдержал негодование и, обождав немного, тихо сказал:
— Я никогда не забываю, что мы находимся не в Италии, а в родной Венгрии. Здесь невозможен иной путь, только соглашение — либо с низами, либо с верхами!.. И ты так же поступишь.
— Идти на уступки из страха — никогда! Разве что интересы страны потребуют…
Юный Ласло, с тех пор как прибыл из Вены в Буду, чтобы занять королевский престол, впервые серьезно держал совет с вельможами. Это было что-то вроде малого Государственного совета: никто не получал особого приглашения, но явились все, кто по богатству своему и сопряженной с ним власти играл в стране значительную роль. Собственно говоря, не с королем держали они совет — от этого неизменно молчаливого юноши-ребенка, всегда вялого и утомленного в перезрелой своей молодости, почти невозможно было добиться хоть слова даже о самых естественных проявлениях жизни. Вот и теперь он сидел на троне так сиротливо и беспомощно, будто собирался заснуть, даже глаза прикрыл, а вельможи, попарно разойдясь по углам тронного зала, беседовали тихо, сдерживая привычные к громкой речи голоса почти до шепота, лишь бы не обеспокоить его… В этой картине отражалось и отношение их к королю, которого после долгих проволочек и торга они все же поставили над собой, привезли домой из Вены, чтобы из уважения к высшей власти, впитавшегося им в плоть и кровь, как-то сдерживать себя, не подымать голос друг на друга еще больше, ибо поднимать его еще и еще было уже нельзя, не губя и себя самих, и государство…
По залу разлился совершенно непривычный, почти раздражающий дух миролюбия и преувеличенного стремления ко взаимному пониманию: в тихо произносимых словах даже не проглядывал гнев, самые заклятые враги, беседуя, касались лишь таких тем, по которым могли прийти к какому-либо согласию.
В одном углу беседовали Хуняди и Цилли. Тихо и растроганно говорили об умершей в Хуняде дочери Цилли, маленькой Катице, помолвленной с Матяшем Хуняди. Янош рассказывал отцу о ее последних днях:
— Она все время громко звала твою милость. Словно, не простившись, тяжко ей было в вечный путь отправляться…
Цилли молчал, только часто глотал слюну да подергивал рыжеватые редкие усы, словно хотел выдрать их все по волоску.
— …Все время звала твою милость, домой рвалась. Мы бы и повезли ее на перекладных, быстренько, но не смели в путь тронуться, — зима-то суровая, мороз. До конца надеялись, может, выживет…
Наступила тишина, однако сейчас в ней не было никакой напряженности — просто оба глубоко погрузились в свои мысли.
— А я уж думал, — немного погодя горько и нерешительно проговорил Цилли, — что свяжет нас с тобой ее девичья ласка…
В этой фразе крылось больше, нежели естественная горечь: в ней было крушение попытки достигнуть примирения с помощью семейных уз, и, значит, снова подымала голову пожирающая обоих вражда со всеми ее ухищрениями и насилием… Однако пока эта мучительная страсть еще мирно дремала в них, Хуняди выслушал Цилли и сказал просто:
— И я так думал…
К ним подошел королевский наместник Гараи и с доброй родственной улыбкой обратился к Хуняди:
— Как поживает мой будущий зять Ласло? Пришлось ли ему по вкусу новоиспеченное пожоньское графство?