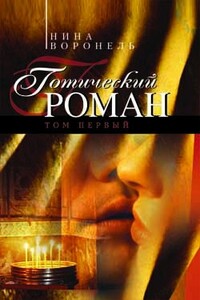Как-то в бессонный ночной час Гарри кольнула острая тревога — чем он занимается, на что тратит свою короткую жизнь? Уже проходит в суете 1920 год, графу Гарри минуло пятьдесят, а он все еще мечется, бьет тревогу, пишет проекты для Лиги Наций, воображая, что спасает человечество. Ведь это все пыль, прах и суета сует — никто не спасет человечество, если оно хочет себя погубить, и уж, конечно, не граф Гарри Кесслер. А что за люди вокруг него, не люди, а людишки! С какими людишками ему теперь приходится постоянно иметь дело, с мелкими, самовлюбленными бездарями, которым просто чудом попал в руки штурвал мировой истории.
А ведь в ушедшие славные времена он общался с гениями, с великими артистами — правда, чего скрывать, самовлюбленными многие из них тоже были, но у них имелись для этого основания. Они блистали, сверкали, они излучали идеи и видения, а сегодня все это кануло в Лету. Гарри чуть было не заплакал от огорчения и понял, что в эту ночь он уже не заснет.
А утром случилось чудо: ему позвонил директор берлинского музыкального театра и попросил разрешение поставить на своей сцене балет Гарри «Легенда об Иосифе». От композитора Рихарда Штрауса они получили не только разрешение на постановку, но и согласие дирижировать оркестром. Гарри положил трубку, не совсем поверив, что кто-то среди разброда и разрухи хочет поставить его балет, который когда-то был его главным творческим достижением.
Поверить было трудно — балет не вписывался в сегодняшний хаос, он принадлежал другому времени, другой эстетике, другому представлению о жизни и смерти. Поверить было трудно, но очень хотелось, и Гарри стал вырывать минутки из своего сурового расписания борца за мир, чтобы хоть иногда ходить на репетиции. Они одновременно утешали и разочаровывали его — оркестр был отличным, как и положено немецкому оркестру, танцоры — умелыми и грациозными, но на берлинской сцене не воссоздавалась магия дягилевской постановки. Когда-то в Париже, едва белый ангел русского балета взлетал над сценой, коллективное сердце зрительного зала на миг замирало и в наступившей тишине было слышно дыхание вечности. Но здесь рассчитывать на такой эффект не приходилось.
Впрочем, это не помешало успеху нового спектакля. Люди так устали от житейской дисгармонии, что с наслаждением погружались в слаженную композицию условного действа. Сквозь щелочку в кулисах Гарри наблюдал за лицами зрителей — хоть того, прошлого, навек ушедшего трепета они не испытывали, но простое удовольствие получали. И вдруг в поле зрения Гарри вплыло знакомое лицо, настолько неуместное в этом зале, что Гарри не сразу его узнал, а узнав, ахнул — Альберт Эйнштейн собственной персоной!
Не прошло и недели, как графу представилась возможность провести несколько часов в обществе великого ученого. Председатель группы германских пацифистов предложил графу войти в состав делегации, направляющейся в Амстердам на международный конгресс профсоюзов. В поезде Гарри по взаимной симпатии оказался в одном купе с Вальтером Ратенау, Эдвардом Бернштейном и Альбертом Эйнштейном, на что кто-то из завистников прошипел из коридора: «Обратите внимание, господа, наш аристократ предпочитает евреев».
Он был не прав, граф Гарри предпочитал не евреев, а интересных собеседников — не его вина, что ими оказались три еврея. Равномерное движение по рельсам располагало к непринужденной шутливой беседе, тем более что и Бернштейн, и Ратенау недаром слыли испытанными остряками. В купе было весело и шумно, и только великий Альберт помалкивал. Лишь однажды в ответ на какое-то непочтительное научное заявление Вальтера ученый сказал серьезно, что Бог отличается постоянством — например, вес атома железа в любой части вселенной оказывается величиной постоянной, — тогда как развращенное воображение человека может изменять что угодно и сколь угодно.
В душе Гарри вспыхнуло мгновенное желание поддразнить Эйнштейна, и он решился на каверзную шутку, сказав, что такое постоянство говорит о тупости Бога, тогда как изменчивое воображение человека свидетельствует о высоте его интеллекта. Но Эйнштейн не согласился с шутливым тоном Гарри — он объявил, что чем глубже он постигает тайны науки, тем больше восхищается высотой божественного интеллекта. Все три шутника смущенно замолкли.