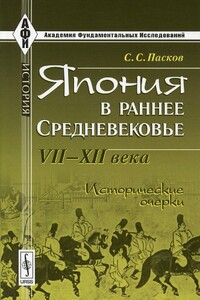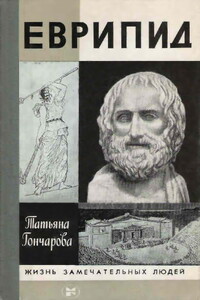Плутарху было уже около пятидесяти лет, когда он приступает к своему главному труду — «Сравнительным жизнеописаниям». Историческая биография давно уже стала одним из его главных жанров: биографии Геракла и других мифических героев, восьми римских цезарей и персидского царя Артаксеркса. Перечнем кратких биографий были, по существу, его рассказы о спартанцах и римлянах прошлых времен. И всегда ему хотелось чего-то большего, чем только просветить, хотелось выяснить, определить самое главное в прожитой истории, разглядеть за переплетением событий и эпизодов те законы, возможно, неотменимые, общественной и государственной жизни, которые уже были подмечены Полибием и становились все более очевидными для самого Плутарха.
История для него слагалась в основном из свершений, побед и поражении великих людей — царей, полководцев, законодателей и политических деятелей, характер и нравственные качества которых нередко оказывались решающими для хода событий. Сам тип выдающихся людей зависел от того, в какую эпоху им выпало родиться: на туманной заре государственности, в «золотой век нравственности» или же в тягостные времена упадка. И вся эта сложная, трагическая в своих противоречиях, навсегда отшумевшая жизнь, которую Плутарх будет воссоздавать век за веком в своем величественном, как фидиевы творения, сочинении, предстает у него в конечном счете как одно из проявлений вечной жизни Вселенной, дыханием которой пронизаны размышления бессмертных мудрецов Эллады. «Действительно, если количество основных частиц мироздания неограниченно велико, то в самом богатстве своего материала судьба находит щедрый источник для созидания подобий; если же, напротив, события сплетаются из ограниченного числа начальных частиц, то неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами», — так объясняет Плутарх в биографии римлянина Сертория удивлявшие его самого аналогии в греческой и римской истории, в сходстве характеров и поступков целого ряда выдающихся людей.
Проделав огромную предварительную работу («во избежание упреков в небрежности и лени, я попытался собрать то, что большинству остается неизвестным»), он вполне осознавал всю сложность стоявшей перед ним задачи: написать еще раз о тех людях и событиях, к которым до него обращались Геродот, Фукидид и Полибий (не говоря уже о менее значительных историках), но сделать это так, чтобы не было ни повторения, ни подражания, особенно в манере письма. «А на мой взгляд, соперничать и состязаться в слоге — затея по сути своей ничтожная и софистическая, а если речь идет о вещах неподражаемых, то и просто глупая», — пишет Плутарх во вступлении к одной Из биографий. Он постоянно подчёркивает, что, приступая к этой работе ставил перед собой свои задачи и самая главная из них оставить своего рода памятник драгоценному для него миру Эллады, которому уже не дано повториться?
Задавшись целью пройти вместе с читателями весь блистательный и горестный путь греков и римлян, Плутарх обращается к самому началу, когда на заре государственности герои и законодатели закладывали основы тысячелетней последующей жизни. От этих времен остались лишь предания да отдельные упоминания в старинных сочинениях. Поэтому, понимая всю относительность приводимых им сведений, Плутарх заранее просит благосклонного читателя отнестись со снисхождением к этим «рассказам о старине».
«Подобно тому, как историки в описаниях земли все, ускользающее от их знаний, относят к самым краям карты, помечая на полях: „Далее безводные пески и дикие звери“, или: „Болота мрака“, или: „Скифские морозы“, или: „Ледовитое море“, — начинает Плутарх свое повествование о Тезее, основателе афинского государства, — точно так же и мне, Сосий Сенецион, в работе над сравнительными жизнеописаниями, пройдя через времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, можно было бы о поре более древней сказать: „Далее чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет мест достоверности и точности“».