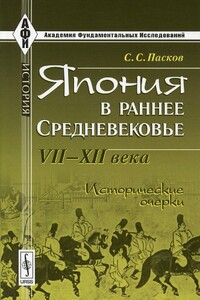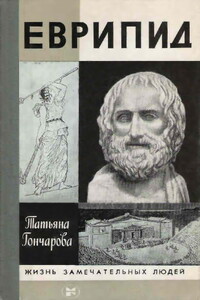В своих многочисленных «Моралиа» — сочинениях на темы этики и нравственности — Плутарх стремится поддерживать веру в благой результат справедливых поступков и добрых деяний. В поисках примеров он обращается к различным жизненным ситуациям, анализирует наиболее характерные из человеческих качеств, ставя своем целью убедить учеников в возможности самосовершенствования. Ом стремился, что было самым главным при тогдашних обстоятельствах, воспитать у них твердую веру в возможности человеческой воли и разума, в то, что «превратности судьбы не несут в себе сокрушающего удара для жизни».
В свое время Платон советовал не развивать ни души без тела, ни тела без души, но стараться, чтобы обе эти стороны, как бы состязаясь друг с другом, находились в постоянном равновесии. Что же касается Плутарха, то он считал воспитание души значительно более важным, чем закалку тела, потому что теперь рассчитывать приходилось прежде всего на несокрушимую крепость собственной души. Навсегда от казавшись от надежд оздоровить нравственно общество посредством каких-то политических нововведений или же строжайших законов (вроде тех, что предлагал Платон), Плутарх убеждал дорожить добродетелью ради нее самой, как единственно надежным фундаментом собственной жизни. В трактате «О суеверии» он приводит две строки из старинной трагедии:
О добродетель жалкая! Напрасно я
Тебе служил так ревностно
и тут же опровергает их следующим образом: «Такие суждения достойны сожаления и негодования, потому что стоит им запасть в душу, как она начинает кишеть, словно личинками и червяками, болезнями и страданиями». Он стремится убедить своих учеников, что главное в конечном счете — это тот нравственный закон, который, как частица Мировой справедливости, содержится в каждой душе. Тот самый, не людьми данный закон, в непреложности которого был убежден Софокл, один из самых светлых поэтических гениев Эллады. Однако и в этом вопросе, как и во многом другом, Плутарх противоречит сам себе. Так, он восхищается суровой доблестью спартанцев времен ликургова благозакония, несмотря на то что многое у них не укладывалось в его моральные каноны, и прежде всего — их жестокость в отношении к более слабым. Затем, из его же собственных сочинений видно, что ни нравственные запреты, ни прославленная доблесть спартанцев не смогли устоять перед победным шествием золота, когда это сделалось дозволенным, и не спасли Лакедемон, как и другие греческие полисы, от внутреннего разложения.
Обстоятельно, прибегая к многочисленным примерам, Плутарх разбирает в своих «Моралиа» людские пороки (которых всегда почему-то оказывается больше) и те положительные качества, из совокупности которых слагается добродетель. Все это было призвано подтвердить те этические постулаты, которые он надеялся запечатлеть навсегда в еще мягких, как воск, юных душах: жить так, чтобы не только не делать зла, но постараться ни в чем не ущемлять интересов других, «достичь самодовления и безнуждности в совершенной праведности». И главное — всегда помнить о том, что «существует, вероятно, некое божество, удел которого — умерять чрезмерное счастье и так смешивать жребии человеческой жизни, чтобы ни одна не осталась совершенно непричастной бедствиям». Иначе говоря, научиться жить так, чтобы быть готовым к любому повороту судьбы — единственно возможная философия предзакатного времени.
Он внушал ученикам, что Правда — едина, и нельзя оправдывать неблаговидные поступки зависимостью от обстоятельств, тем, «что приходится, мол, нарушать правду в малом, если хочешь соблюсти ее в большом».
Обучая «науке жизни человеческой», Плутарх напоминает о наказаниях, ожидающих нечестивых и преступных, о самом страшном из которых так писал Платон: после смерти злодеи попадают в Эреб, находящийся внутри земли, где в вечном мраке текут черные реки, они погружаются в этот мрак навсегда, и больше о них никто не вспоминает. Поступающие беззаконно и одержимые пороками, вторил Платону Плутарх, не нуждаются ни в каком мстителе, будь то бог или человек, ибо их собственная жизнь, безвозвратно испорченная и тягостная для них самих, — уже достаточное наказание. Он пытается помочь, видя в этом свой главный долг, молодым соплеменникам, последним отпрыскам на засыхающих тысячелетних корнях, сохранить чистоту деяний и помыслов, направляя их ум «на такие предметы созерцания, которые, радуя его, влекут его к добру, ему свойственному», и в то же время отвращая их от дурного «откровенными, больно жалящими словами».