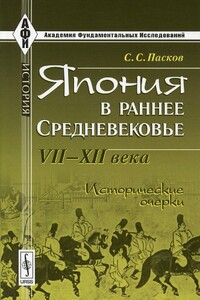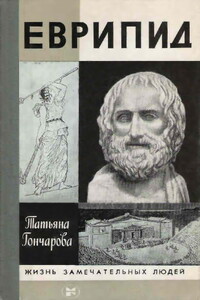Свой главный совет — жить активной общественной жизнью — Плутарх продолжал подкреплять собственным примером, все больше видя цель своей разносторонней деятельности в служении не только родному городу, не только провинции Ахайя, но и всей империи. Для него было очевидно, что любое противодействие высшей власти бессмысленно и вредно, так как только поддерживая общими усилиями достаточно условное внутреннее согласие они могли надеяться хоть как-то продлить свое существование в кольце подступающего варварства. Демократические иллюзии греками были давно изжиты, а произвол императоров в провинции виделся несколько иначе, чем в Риме. И самое главное: обличавшие деспотизм Домициана стоики упрямо продолжали взывать к тому, чего было уже никогда не вернуть.
Сто пятьдесят лет назад Марк Туллий Цицерон, также непримиримый противник атараксии эпикурейцев, писал о многоступенчатых обязанностях человека, желающего «жить как должно». К этим же самым обязанностям — перед семьей, перед городом, перед государством — постоянно обращался и Плутарх, не приемлющий ни при каких обстоятельствах ни отчаяния, ни самоустранения, даже если бы это выглядело, как писал об этом Сенека, достойным уходом, а не паническим бегством. Жизнь — вообще испытание, говорил он своим ученикам, и редкие радости, счастливые мгновения в ней — как золотые крупинки. Ведь еще Гомер писал о том, что хорошо прожившим можно считать того, кому довелось узнать не только худшие, но и лучшие дни. Великим афинским трагикам жизнь виделась постоянной борьбой доблести со случаем, воли и разума — с неумолимой жестокостью судьбы, которая «никогда не раздает людям безвозмездно свои великие дары». Понимая удел человека как нравственный подвиг, Плутарх продолжал взывать к доблести как решающему из человеческих качеств, которая сильнее страданий, случайностей и даже самой судьбы: «пока доблесть старается оградить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над нею верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может».
С нарастающим отчуждением в обществе Плутарх предлагает бороться посредством таких идущих с давних пор обычаев, как взаимопомощь, странноприимство, совместные занятия философией, вечерние собрания друзей и соседей, на которых важны не столько вино и музыка, сколько обмен мыслями и взаимопонимание. Он все еще надеялся выстроить спасительную крепость сознательного человеколюбия, хотя и у него возникали порой сомнения на этот счет: «Ты знаешь, — обращается он к одному из друзей, — как я по своему нраву склонен придерживаться доброго мнения о людях и доверять им. И вот чем более я опираюсь на дружеские чувства людей, тем более грубые ошибки приходится мне совершать, подобно человеку, оступившемуся над ямой, и тем болезненнее бывает мое падение. Искоренить все чрезмерное в своей душевной склонности к дружеской любви мне, вероятно, уже поздно; но в излишнем доверии к людям я, пожалуй, могу воспользоваться, как уздой, примером благоразумной осмотрительности Платона… который даже похвальные отзывы сопровождал оговоркой, „что речь идет только о человеке, то есть существе по природе переменчивом“».
Разбросанные по его сочинениям реплики и замечания позволяют предполагать, что у Плутарха было немало поводов для разочарования даже в хорошо знакомых людях, а большинство его современников вообще вряд ли могли рассчитывать на уважение, и все равно он продолжал надеяться, что в людях хорошего больше, чем плохого. Как и в большинстве других вопросов, позиция Плутарха двойственна и противоречива. С одной стороны, он выводит в своих сочинениях целый спектр не самых привлекательных человеческих качеств. А с другой — опровергает Софокла, утверждавшего, что «вглядевшись в смертных, низость в них найдешь всегда», приводя примеры целого ряда людей, у которых небольшие недостатки отступали перед несомненными достоинствами. Плутарх и себя не считал свободным от недостатков, постоянно работая над их преодолением и полагая это наиглавнейшей задачей каждого: «А кто направит свое внимание от внешнего мира на самого себя, повторяя вслед за Платоном „А не таков ли и я?“ и присоединяя к упрекам, направленным против других, собственную осмотрительность, тот не будет придирчиво требовательным, видя, что сам нуждается в большом снисхождении».