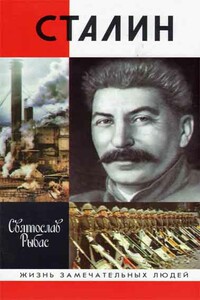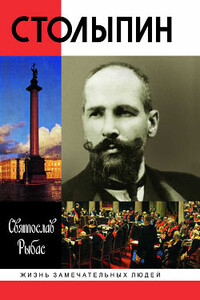— Институт закончил.
— Теперь не страшно, когда игру бросишь. У меня-то девять классов.
— Не горюй, — говорю я. — Ты еще молодой, все впереди. Тебя же во вторую сборную включили…
Мне жалко было этого здоровенного Кубасова. Он раскраснелся и горько хлопает ресницами.
— Включили!.. В запасе просидел. Несовременный я защитник. Я разрушитель, а надо создателя. Кто такое навыдумывал? По мячу-то ударить не могут, не то, что по ногам… — Он наклоняется ко мне: — Я так, к слову. Не подумай. Я постараюсь тебя не поломать.
— Ты современный защитник, — успокаиваю его.
Расхотелось мне обедать. Сказать бы тут ему, кто он такой — костолом, мясник, враг. Я не говорю. Нет, я не боюсь, просто нашла какая-то неловкость, и язык закрепостился.
— Ты ешь, ешь. Мне — позвонить, — бормочу я вовсе не то.
Я ушел в прихожую, поманил Веру и расплатился.
— Васенька, — вздохнула Вера. — Вы не поддавайтесь, вам надо победить.
— У нас план, — начал было я, но догадался, о какой победе она говорит. Однако не идти же мне назад и резать Кубасову правду-матку в глаза. Я почесал затылок и распрощался с Верой.
Такси не рискнул брать, выбрался проходными дворами к трамваю, по дороге купил темные очки и смастерил из газеты панаму. Я походил на болельщика. По-моему, они все на одни салтык: орут лишь на стадионе, а дома — закрепощен язык.
Вечером я был дома. Иногда Бакота дает такие поблажки Акульшину перед матчем. Тихо было в моей трехкомнатной квартире, душновато, а внизу под балконом шелестели жестяные клены.
Я боялся. Я хотел отдохнуть перед игрой, но во мне сидело что-то. А чего было мне бояться в тот неясный приснившийся вечер? Я вспомнил свой возраст: от силы два сезона будущего. Но к черту это!
Слава богу, Нина не пилила меня. Она склонила над английской книжкой по лексикологии свои пряди и не сразу обернулась на шаги. Она не поинтересовалась: почему останусь, зачем? Ее лицо было знакомо холодным. Может, презрительным? Это я не хотел уточнять. Припухлые губы были сжаты, рот будто ножом прорезан. «Занимаешься? — невпопад спросил я. — Ну ладно…» Я ушел к себе, сел перед магнитофоном, чтобы забыться. Я послушал записи государственных гимнов разных стран, где побывал, почитал «Советский спорт», потом попил чайку с лимоном и спать захотел.
Но на моей постели возлежал Кубасов. Я остолбенел от такой плотной опеки. Я грубо толкнул его. Наверно, надо было драться.
— Больно же, — проворчал он. — Извини, Акуля, тренер велел… Переночую.
— Я женат, идиот! — крикнул я.
— Завтра игра, — ответил Кубасов, отводя мой намек.
У меня опустились руки, я упал рядом с ним и отключился. И мне приснился сон, странный сон, в котором я весь был закрепощен и лишен воли: Кубасов не отставал от меня, гонялся за мной по полю с косой в руках. «Куда теперь?» — спросил он. «В штрафную, — выдохнул я. — Головой забить попробую». — «Ну-ну. Не бойся, я просто так», — ответил он, и мы дружно побежали в штрафную площадь.
Открыл глаза: слава богу, я был на озере Кирша, где у нас лагерь.
— Доброе утро, Акуля! — улыбнулся Тимченко.
— Привет, Тимка-голкипер, — ответил я. — Сколько градусов на солнце?
— Девятнадцать, — сказал Тимка, причесывая перед футляром электробритвы свои черные вьющиеся волосы.
Я быстро натянул брюки.
— Тима, глаза-то у тебя голубые? — удивился я. — Красивый ты паренек. Для другой жизни — не для нашей.
— Поздно разочаровываться, — бросил Тимченко, он всегда нравился мне: не сомневается, и храбрый вратарь, храбрейший.
— Как — сегодня? — спросил он.
— На тридцатой забью гол, — ответил я. — И мы их сильно разочаруем, Тимочка.
Мы побежали разминать свои тренированные, привычные к труду тела. Я пробежал сотню метров по светлой рощице, отстал от команды и вернулся. Что-то бегать мне сегодня не очень хотелось.
В столовой прохладно, бело, пахнет помидорами и жареным луком. Я с порога хватаю этот утренний запах и вдруг вижу сбоку старшего тренера. Я вхожу в столовую.
— Вася! — кричит он.
Я нехотя возвращаюсь. Бакота выбрит, рыжеватые редеющие волосы влажны и гладко зачесаны на прямой пробор, обнажая белые полукружья на загорелом крепком лбу.