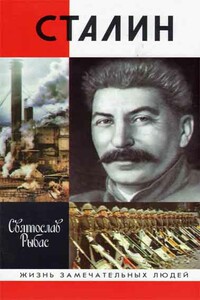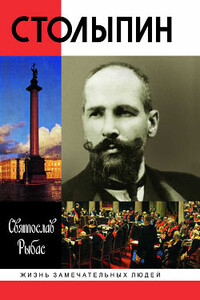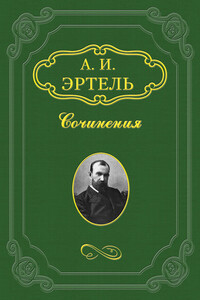— Я старший тренер! — поспешил ответить Тимченко Бакота.
— Дело Акульшин говорит! — крикнул Арзамасцев.
Но моя судьба уже отделялась, и я вспомнил, как вернулся в эту команду, в родной город, где начинал: команда без меня пробилась, и я уже схожу. Лучшие годы были позади. Моя Нина только поступила в аспирантуру — тут переезд, хлопоты, новая квартира в провинции. Нина пошла за мной, но что-то у нас не заладилось. Теперь назад дороги не было, я слушал государственные гимны с магнитофона и грустил. Конечно, я сделал то, за что меня называли дураком: добровольцем уехал в провинцию.
В красном уголке поднялся гвалт. Высокий постеснялся говорить дальше и уехал.
Бакота вдруг разорался, и ребята притихли. Он объявил заявленный состав. Я не сомневался, что Акули там уже нет. В запасе — да, но по в основе. Так оно и вышло.
Тимченко пересел в тренерское кресло. Его голубые глаза в ободке сузившихся век были темны. Худо, если Тимка перегорит до пяти.
— Ерунда, — успокоил я его. — Выйду во втором — забью.
— Ты не выйдешь во втором! — выкрикнул Тимка. — Тебя хотят выжить!
Я, кажется, засмеялся, и Бакота вытаращился на меня.
В половине третьего я попал домой, без труда отпросившись у Бакоты. Он со скрытой радостью отпустил меня, чтобы не мозолил я ему глаза на Кирше.
Задрав голову, я свистнул в тени открытому балкону и вбежал в прохладу парадного. Слава богу, Нина еще не ушла.
Она открыла мне и, отойдя в глубь прихожей, куда падали лучи из комнаты, спросила:
— Ключ потерял?
Я глядел в ее примятую переносицу, потом в светло-черные глаза, в припухлые губы. Боковой свет проходил сквозь кроны кленов на дворе и вспыхивал, путаясь, у нее в волосах.
— Ну, что молчишь? — спросила Нина.
— Соскучилась?
— Соскучилась. Слушай-ка, Василий, — сказала она, — я давно поговорить хочу.
Ее голос звучал звонко, раздраженно, с неясным для меня новым чувством. Я взял Нину за руки и притянул к себе. Она положила голову мне на грудь и спокойно сказала:
— Как я тебя любила!..
Мы пошли в мою комнату. На столе вхолостую крутился магнитофон, в пепельнице дымилась сигарета. Только что Нина была здесь.
— А ты куришь, — сказал я невпопад. — Я и не знал.
Она пожала плечами, выключила магнитофон.
— Слушала твои гимны! — произнесла с горечью она.
У нее выходило так, что будто эти гимны поломали нам всю жизнь.
Она глядела куда-то выше моей головы. Я оглянулся. На стене под стеклом висела цветная фотография Колизея, древнейшего римского стадиона; его светло-коричневые камни поднимались в небо — почти до самого края фотографии. Синее небо проглядывало в его окна, вокруг стояли красные, желтые и черные автобусы и лимузины; сбоку случайно влезла в кадр ветка какого-то дерева с узкими листьями. Это была не наша сторона, и ветка тоже была точно игрушечная, но вот над самым Колизеем, там, где остался простор, улыбались наши молодые лица, двадцать сильномогучих ребят из Союза, — мы только что разбили сборную прекрасной страны Италии, и нам подарили по такому смонтированному снимку. Я тоже тогда был не в пример нынешнему. В тот год мы с Ниной справили свадьбу… Больше мне не быть таким.
Она глядела сейчас на эту фотографию немилостиво, с печалью великой. И может быть, думала, что нет на свете прекрасной страны Италии, нет того счастливого времени, а все — сон.
— Василий! — взмолилась Нина. — Дай мне пожить! Дай хоть год пожить, пока последняя молодость не прошла!
Я хотел погладить ее по голове. В чем-то я перед ней был виноват. В чем?
— Не надо, — она отстранилась. — Давай поговорим. Может, полегчает… Знаешь, когда я полюбила тебя? Когда ты решил переехать сюда, в эту глушь, провинцию… Я поняла, что прежде тебя не любила. То было другое, не любовь. Тогда я думала — любовь, а потом оказалось — нет. Я была совсем глупой, а ты простодушный, знаменитый, сильный, и между вами — пропасть, ничего общего.
Нина замолчала, опустила глаза. У нее на щеках проступили красноватые пятна и точки.
— Вернемся! — сказал я. — Пусть их черт… Вернемся в Москву. На завод пойду. Малышей буду тренировать. Найдется дело… Не помру, когда брошу играть. Не выдумывай трагедий.