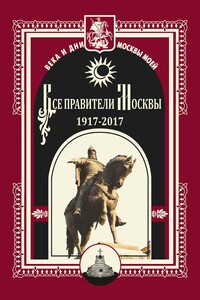фотографа и еще, в темном углу старой церкви, копию с «Положения во гроб» Тициана, которая
в сумраке показалась мне очень красивой и мастерской по тону. Подлинная ли это работа
Бретона? Не знаю – подписи я не нашел.
Следов ныне здравствующих художников – никаких; там есть только кафе под
названием «Кафе искусств», тоже новенькое, кирпичное, неуютное, холодное и неприятное. Это
кафе украшено чем-то вроде фресок или стенной росписи, изображающей эпизоды из жизни
достославного рыцаря Дон Кихота. Фрески, между нами говоря, оказались довольно слабым
утешением: они весьма посредственны. Чьей они работы – не знаю.
И все же я видел ландшафт Курьера – стога, коричневая пашня или мергельная земля
почти кофейного цвета с беловатыми пятнами там, где выступает мергель, что для нас,
привыкших к черноватой почве, более или менее необычно.
Французское небо показалось мне значительно нежнее и прозрачнее, чем закопченное и
туманное небо Боринажа. Кроме того, я видел фермы и сараи, еще сохранившие – хвала и
благодарение господу! – свои замшелые соломенные крыши; видел я также стаи ворон,
ставшие знаменитыми после картин Добиньи и Милле. Впрочем, раньше всего следовало бы
упомянуть характерные и живописные фигуры различных рабочих – землекопов, дровосеков,
батраков на телегах и силуэт женщины в белом чепце. Даже там, в Курьере, есть угольные
разработки, иначе говоря, шахта. Я видел, как в вечерних сумерках поднималась на поверхность
дневная смена, но там не было работниц в мужских костюмах, как в Боринаже, – одни лишь
шахтеры с усталыми и несчастными лицами, черные от угольной пыли, в изорванной рабочей
одежде, один даже в старой солдатской шинели.
Хотя это путешествие совсем доконало меня – я вернулся падая от усталости, со
стертыми в кровь ногами и в довольно плачевном состоянии, – я ни о чем не жалею, потому
что видел много интересного; к тому же в суровых испытаниях нищеты учишься смотреть на
вещи совсем иными глазами. По дороге я кое-где зарабатывал кусок хлеба, выменивая его на
рисунки, которые были у меня в дорожном мешке. Но когда мои десять франков иссякли, мне
пришлось провести последние ночи под открытым небом: один раз – в брошенной телеге, к
утру совсем побелевшей от инея, – довольно скверное убежище; другой раз – на куче
хвороста; и в третий раз – это уже было немножко лучше – в початом стогу сена, где мне
удалось устроить себе несколько более комфортабельное убежище, хотя мелкий дождь не
слишком способствовал хорошему самочувствию.
И все-таки именно в этой крайней нищете я почувствовал, как возвращается ко мне
былая энергия, и сказал себе: «Что бы ни было, я еще поднимусь, я опять возьмусь за карандаш,
который бросил в минуту глубокого отчаяния, и снова начну рисовать!» С тех пор, как мне
кажется, все у меня изменилось: я вновь на верном пути, мой карандаш уже стал немножко
послушнее и с каждым днем становится все более и более послушным.
А раньше слишком долгая и слишком беспросветная нужда до такой степени угнетала
меня, что я был не в состоянии что-нибудь делать.
Во время этого путешествия я видел и другое – поселки ткачей.
Шахтеры и ткачи – это совсем особая порода людей, отличная от других рабочих и
ремесленников; я чувствую к ним большую симпатию и сочту себя счастливым, если когда-
нибудь сумею так нарисовать эти еще неизвестные или почти неизвестные типы, чтобы все
познакомились с ними.
Шахтер – это человек из пропасти, «de profundis», 1 ткач, напротив, мечтателен,
задумчив, похож чуть ли не на лунатика. Вот уже почти два года я живу среди них и в какой-то
мере научился понимать их своеобразный характер, по крайней мере характер шахтера. И с
каждым днем я нахожу все более трогательными, даже потрясающими, этих бедных,
безвестных тружеников, этих, так сказать, последних и презреннейших из всех, кого слишком
живое, но предвзятое воображение ошибочно рисует в виде племени злодеев и разбойников.
Злодеи, пьяницы и разбойники есть и меж ними, как, впрочем, везде, но это совсем не
характерно для них.
1 «Из бездны» (лат.)
В своем письме ты туманно пишешь о том, что рано или поздно мне надо будет