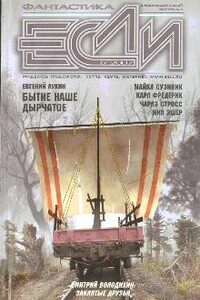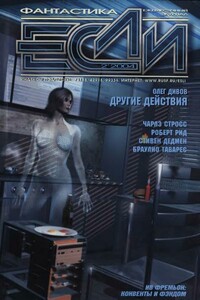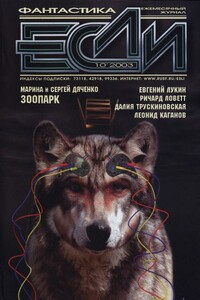Ферсман рассказывает в своей книге удивительную историю кальция, из которого преимущественно состоят грандиозные выбросы вещества с поверхности солнца, так называемые протуберанцы, и постройки белых муравьев - термитов; раковины и мраморные плиты на распределительных щитах электростанций; сталактиты известковых пещер и бетонные основания небоскрёбов. Здесь можно проследить за судьбой железа, сверкающего в атмосферах раскалённых звёзд, падающего па землю с тонкой космической пылью и метеоритами, собираемого бактериями на дне болот, - железа, от которого зависят мощь промышленности, жизнь растений и цвет нашей крови. Если вы можете заинтересоваться рассказами о вездесущем иоде, избыток и недостаток которого одинаково смертельны для организма человека; о таинственных путях, которыми ванадий попадает в тела некоторых обитателей моря, в то время как его не удаётся обнаружить в морской воде, - если история атомов в мироздании и в технике может приковать ваше внимание, - поскорее раскройте «Занимательную геохимию».
Паши знания о химии земли дались не легко. Ферсман вспоминает в своей книге, как однажды на берегу озера Вудьявр, на Кольском полуострове, глядя на город и оживлённое шоссе, он лишь с трудом мог вызывать в своей памяти картину дикой и неприветливой тундры. «Приезжий, - писал Ферсман, - который видел перед собой теперь людный город, шоссе, грузовики - край, обжитый людьми, не мог представить себе, что ещё недавно здесь была глухая тундра. И думал ли он о тех исследователях, которые всего несколько лет тому назад брели здесь по заброшенным тропам в поисках руд и минералов? И о том, каких подчас тяжёлых лишений и трудов стоило разведать богатства, скрытые в суровой тундре, чтобы вызвать к жизни этот край?» Поэтому, рассказывая о достижениях современной научной мысли, указывая с завоёванных вершин на заманчивую перспективу будущего, Ферсман напоминает в своей книге о том, как трудно, медленно, с жертвами и лишениями были расчищены дремучие леса невежества и незнания. Романтикой этой борьбы за новое знание овеяны рассказы об истории открытия химических элементов.
И если вы не испугаетесь того, что, подойдя к концу этой великолепной книги, вы обнаружите себя, в сущности, «в начале нашего знания», если в вас укрепится желание учиться, отправиться в музей или в смелый путь изучения химических процессов земли в самой природе, в экскурсиях по родному краю, - это будет значить, что Ферсман писал свою книгу именно для вас.
О. Писаржевский
Есть порода людей, которым весенней порой не сидится в городе. Как только забормочет, заблестит на солнце капель, они начинают готовиться в путь: чинят рюкзаки, покупают в охотничьих магазинах ружейные патроны, склонившись над картой, вычерчивают свой будущий маршрут. Работа их связана с изучением жизни природы, и весной их неудержимо тянет в горы, в степь, в леса - туда, где запевают свою первую песню птицы, где на влажной грязи можно увидеть звериный след.
К таким неутомимым путешественникам относится и Е. Спангенберг, автор книги «Записки натуралиста» (Детгиз. 1948). Зоолог, научный работник, он много раз ездил в экспедиции, привозил и шкурки для Московского зоому-зея и живых животных для Зоопарка столицы. О своих путешествиях и рассказывает Спангенберг в «Записках натуралиста».
Автору хорошо знакомы и затопленные леса Ленкоранской низменности, и пески пустыни Кызыл-Кум, и усеянные маками и тюльпанами горные долины Туркмении; он бродил с ружьём по дремучей уссурийской тайге, взбирался на кручи Киргизского хребта. В «Записках натуралиста» любовно описывается своеобразие природы различных областей Советской страны.
В книге много приключений, порой опасных, порой забавных, но нет ничего надуманного, нарочитого. Автор рассказывает о том, что пережил сам, что видел своими глазами. Он, затаившись в ветвях арчи, следил за пирушкой грифов (рассказ «Глазастые хищники»), сам наблюдал, как медвежонок-пестун переносил в зубах через реку младшего братишку («На Имане»), сам ловил змей, наступая им на хвосты («Амурский полоз»), сам слышал близкий вой волчицы, старавшейся отвести от логова охотника («Волки»), сам испытал, как остры иглы дикобраза («Тыкеп-Чэкал») и как трудно развести челюсти черепахи, мёртвой хваткой вцепившейся в рукав пиджака («Мягкотелая черепаха»).