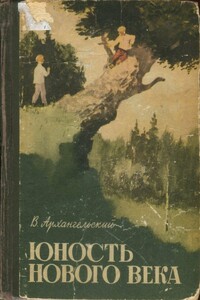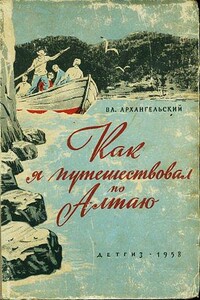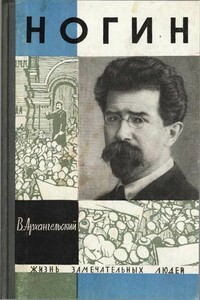И еще вспоминались «шашки» — веселая озорная игра в бабки. Петека — отчаянный заводила и хитряк — наловчился посылать биту так, что в конце игры всегда пузырилась у него от «шашек» рубаха над поясом…
Но в Питере дни летели, как колесо с высокой горы. И он вместе с ними убегал все дальше и дальше от всего, чем было дорого детство. С гудком просыпался, по-темному устремлялся в цех; в сумерках возвращался, перехватывал щи либо кашу с куском хлеба — и на боковую.
Полагалось ему крутиться в цехе девять часов: больше на побегушках, на подноске или уборке и для самого беглого знакомства с рабочим ящиком слесаря. Но, бывало, его задерживали или сам он прихватывал час-другой, когда дозволяли снимать наждаком окалину со «штуки», подходить к тискам и помаленьку приучать руку к молотку.
Как помнят люди, видавшие Петра в эти годы, был он паренек рослый, худой. По характеру гордый и молчаливый. Многие старшие понимали, что все это вроде бы знак его сиротства, и относились к нему сердечно. Он это чувствовал тонко и отвечал лаской. Пытливые серые глаза с золотистыми крапинками теплели. От доброго слова оживлялся заметно и работал с огоньком.
А вообще-то, было несладко. Учили плохо, к станку не приваживали, зато подзатыльники раздавали запросто. «Если получали затрещин в день десять, это хорошо, а то и двадцать», — вспоминал о том времени Смородин. Чаще всего прикладывали руку свои люди — старшие ученики, за ними — мастера, а то и приказчики. «Положение ребят, особенно из деревни, — забитость, нищета… Вот почему после нескольких лет ученики легко воспринимали революционные идеи… Мы ненавидели городового, пристава, околоточного, хозяина, приказчика, мастера… уважали только своих, кто вместе с нами поступил».
Тем, кто не знал его близко, Петр казался болезненным: острые лопатки зримо выпирали из-под рубахи, и кожа на липе была слишком белая — без румянца и без загара. А он был здоров, только для нормального роста не хватало ему харчей при нищенском заработке ученика. Ходить же к матери всякий день на барскую кухню не позволяла рабочая гордость.
С первой получки, в студеный ноябрьский вечер, помчался он к Анне Петровне. Скинул шапку у порога, чинно сел на табуретку, не скрывая улыбки, погремел серебром в кармане и выложил на стол два целковых. Немного, конечно, только дороже этих денег у него уже никогда не было: свои, кровные, первые, рабочие!
Мать всплеснула руками. Давай скорей угощать его кофием с мятным пряником. То-то счастье: объявился будущий кормилец, хозяин.
— Ой, Петька, вот день-то ноне добрый! Теперь у нас все как по маслу пойдет… Я уж тебе подкину трешницу, подадимся завтра сапоги покупать. С них начнем, и так до самой макушки, чтоб был ты у меня справный мастеровой!
Посудачили обо всем: и про господ Гардениных, и про всю боринскую родню. И Петр сказал, что с нового года — за старание его! — положат ему за смену шестнадцать копеек, и тогда в месяц будет причитаться четыре рубля. Через полгода — шесть, через год — восемь.
— А как долезу до конца учения, — и все двадцать! Поболее деда буду тебе таскать. Хочешь, золотом, хочешь, бумажками. Или тебе, маманя, медяками? Вот бы копейками — полную шапку!..
Петя вскоре ушел, а Анна Петровна долго переживала эту встречу. Она и гордилась, что сын при деле, а в душе жалела его. И удивлялась, что раскрылся он перед ней какой-то новой гранью. Но рассудила по правде:
— Что спрашивать с мальчишки? Дите, оно и есть дите. Только что-то сдвинулось в нем с места, видать, стал в понимание входить…
Так оно и было. Еще раз-другой отвесили ему затрещину — и отступились. Волчонком щетинился он. Не убегал, как другие, почесывая больное место, а оставался там, где его настигли. Овсяной чуб закрывал правый глаз, а левый так и сверлил, колол обидчика. Того и гляди молоток схватит. Да ну и черт с ним, лучше не связываться! Других, что ль, нет? Те любое стерпят!
Ан и те проснулись — вологодские да новгородские, скопские да костромские. И потянулись они к Смородину, словно была у его плеча надежная защита. И говорят, была. И уж одно точно: когда новенький бежал по цеху рядом с Петькой или тащил с ним ящик, от затрещин он избавлялся.