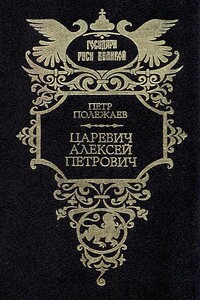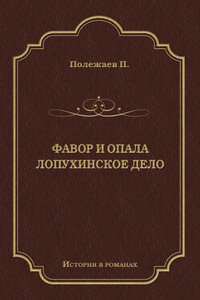Он даже старался отдалять от Петра и своего сына Ивана, видя, что тот во многом не согласен с ним, далеко не сочувствует его честолюбивым замыслам. Боясь, что Иван не только не захочет помогать ему, а, пожалуй, будет противодействовать – и в силу своего более правдивого характера, и просто потому, что он с ним с некоторого времени не в ладах, Алексей Григорьевич решил постепенно отдалить юного царя от Ивана и заставить его перенести свою любовь на второго сына, Николая[64].
Иван Алексеевич, может быть, и догадывался о кознях, которые строит против него отец, но не только не старался их разрушить, не только не противодействовал, а, как бы и не замечая их, сам даже играл ему в руку, постепенно всё больше и больше отдаляясь от Петра.
С Иваном как-то сразу произошла резкая перемена. Ещё недавно он терпеть не мог разгула и попоек, в которых тогдашняя молодёжь проводила всё свободное время, словно стараясь вознаградить себя за воздержание петровских времён. Меланхоличный, задумчивый, грустивший по полям и лесам вотчины, в которой он провёл своё детство, Иван удалялся от шумных сборищ, избегал буйного веселья, шумным потоком клокотавшего вокруг него…
И вдруг, как-то сразу, он стал совершенно другим. Он всё реже и реже стал сопутствовать царю в его чуть ли не ежедневных поездках в Измайлово, Коломенское, Петровский дворец; перестал даже появляться на царских охотах и предался такой бесшабашной, разгульной жизни, что все знавшие его, а в особенности сам Пётр, только диву дались. В Москве заговорили об его изумительном пьянстве, о скандалах, в которых он был и первым зачинщиком и участником. Он по целым неделям не появлялся ни в доме отца, ни в своих дворцовых покоях.
Пётр страшно горевал о таком поведении своего любимца, и в это-то время Алексей Григорьевич и принялся развлекать его, пользуясь полнейшей свободой.
Хитрый Остерман всё время прихварывал, Елизавета впала в немилость, Голицына не было, – и Долгорукий стал приводить в исполнение давно обдуманный план.
Алексей Григорьевич прекрасно понимал, что положение его и его родни далеко не так прочно. В народе его не любили за то, что, будучи воспитателем царя, он не воспитывал его, а, развлекая, истощал заранее его и без того не крепкую натуру; придворные, и в особенности члены верховного совета, положительно ненавидели его и за его фавор у царя, и за заносчивость, напоминавшую по временам меншиковские времена. Нужно, следовательно, было укрепиться, стать твёрдой ногой на ту почву, которая теперь всё ещё колебалась, – а для этого самым подходящим средством было женить царя на одной из своих дочерей.
– Ставши царским тестем, – говорил он мысленно, – я буду всесилен. Тогда уж мне бояться некого и нечего.
Но, думая так, он забывал недавний пример, прошедший перед его же глазами, – пример Меншикова, который тоже чуть не сделался царским тестем и, разжалованный, лишённый чинов, орденов и всех своих богатств, влачил теперь в глухом сибирском посёлке самую жалкую жизнь. Останавливал Алексея Григорьевича от его честолюбивых увлечений его двоюродный брат, фельдмаршал российских войск Василий Владимирович Долгорукий, человек испытанной честности и замечательного ума.
– Берегись, брат, – сказал он ему, когда Алексей Григорьевич сообщил о своих надеждах на брак царя с княжной Екатериной, – берегись: ты заходишь слишком далеко.
Алексей Григорьевич презрительно встряхнул плечами.
– Не дальше, чем зашёл Меншиков.
– Ну, он попал слишком далеко, чтобы желать следовать его примеру, – усмехаясь, отозвался Василий Владимирович.
– Так ведь он погиб потому, что восстановил всех против себя, – горячо возразил Алексей Долгорукий.
– А ты такой безвинный агнец, что против тебя никого нет? Ошибаешься, Алексей Григорьич, жестоко ошибаешься. Из-за тебя нас всех ненавидят. И скажу тебе прямо, что коль ты на такую глупость польстишься да просватаешь за царя дочку, – плохо будет дело. Пропадём мы все ни за грош.
– Будет каркать, ворона!
– Да я не каркаю. Я дело говорю.
– Да чего ж опасаться?!
– А того, что брак царя на подданной ныне немыслим.