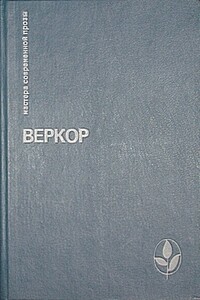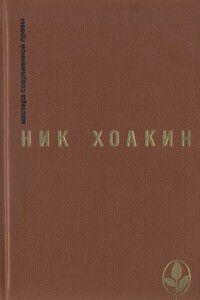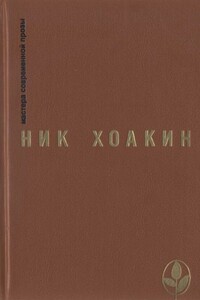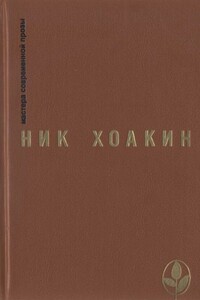Юноша улыбнулся, но выглядел смущенным.
— Я подумал, — сказал Джек, — что именно это ты имел в виду, когда говорил, что надо любить тех, кто сам никого не любит.
— Я говорил не о тех, кто не любит, — запротестовал Андре, — а о тех, кого нельзя любить, — о людях, которые, допустим, дурно пахнут или выглядят смешными.
— Будь осторожен, мой мальчик. Еще шаг — и ты святой, зализывающий язвы прокаженного.
— Вот, кстати, вспомнил: Ненита однажды спросила — почему, когда ищешь святого, всегда находишь прокаженного?
— А кого ты нашел, Андре?
— Нените как-то понравился один парень из манифестантов, от которого разило потом, как от землекопа, целый день махавшего лопатой. А потом она выяснила, что запах этот поддельный. Он просто надевал одежду, в которой потел кто-то другой. Сам работал в помещении с кондиционером, но на демонстрации являлся в ореоле трудяги. А еще у Нениты была близкая подруга, девчонка-активистка лет пятнадцати-шестнадцати, очень убежденная. Всей душой за революцию. И как-то раз Ненита чисто случайно спросила, ради чего она так старается, а та совершенно серьезно ответила: чтобы стать Мадам Комиссар культуры.
— Вы просто похожи на заблудившихся детишек.
— Вот уж нет! — воскликнул Андре, и лицо его посветлело. — Нените пару раз здорово досталось по голове во время демонстрации. А когда мы пикетировали здание американской табачной компании, они погнали на нас грузовик на полной скорости. И еще как-то раз, вечером, мы устроили учебную сходку в парке, а они набросились на нас, избили и потащили в тюрьму. Видите шрам на шее? Я получил его в драке с полицией у обувного магазина на улице Лепанто.
— Ты все же так и не объяснил, Андре, что ты нашел у воинствующей молодежи.
— Джек, вы ошибаетесь, если думаете, что они никого не любят, — хотя, конечно, ненависти там тоже много. Ненавидят американцев и церковь, ненавидят империалистов и буржуазию, ненавидят армию, полицию, владельцев школ — я могу продолжать, пока не покажется, что для того, чтобы любить свою страну, надо возненавидеть все остальное. Но, может, и следует, учитывая нашу историю, дать этой ненависти излиться, прежде чем мы начнем любить.
— Тогда почему ты ушел от них?
— Да не ушел я!
— Что это вы так кричите? — спросила Моника, появившаяся с тарелкой лапши, политой красным соусом. Она поставила ее на стол и сказала: — Садитесь-ка. Андре, включи вентилятор. А вот и папа — он хочет поздороваться с тобой, Джек.
3
Рассказы Джека о его островке недалеко от Давао побудили дона Андонга Мансано вспомнить за мериендой свое первое посещение Давао в начале тридцатых годов, во время кампании в поддержку законопроекта Кесона о независимости. Он сошел с парохода и решил, что находится в японском квартале. «Отвези меня в центр города», — попросил он извозчика. «Это и есть центр», — ответил тот. Так оно и было — просто японцы там кишмя кишели. И лишь тогда дон Андонг, уже крупная политическая фигура в масштабах страны, понял, что часть его отечества стала японской колонией.
— Колонией в колонии, потому что в то время мы сами были американским владением. И тогда же я начал понимать, кто только не хозяйничал в нашей стране: китайцы колонизировали торговлю, испанцы — культуру, Вашингтон командовал нашей политикой, а Голливуд — модами, англичане навязали свой язык, Рим — религию, и так далее. Даже Бомбей, Токио и Аравия не оставили нас без своего колонизирующего влияния.
По возвращении в Манилу, рассказывал дон Андонг, он произнес несколько филиппик против засилья японцев в Давао и тем заработал себе почетное место в «списках разыскиваемых лиц», когда в сорок первом году в страну явились самураи.
— Эта моя поездка в Давао в тридцатые годы — хороший пример парадоксов политики. С одной стороны — да-да, возражать не стану! — кампания в пользу Кесона обеспечила мне кресло в палате представителей, а потом и в сенате. Но из-за участия в ней меня же и разыскивали, когда началась война на Тихом океане. Хорошо это или плохо? Плохо, говорят все — даже моя семья, потому что нам пришлось скрываться, голодать, дрожать от страха. Но это же обернулось и благом. Когда война кончилась, я был на коне: партизанский командир, абсолютно не запятнанный сотрудничеством с врагом. Американцы меня просто полюбили. Но когда я вернулся к политике и занял свое кресло в сенате, им, должно быть, захотелось, чтобы мое имя было хоть как-то замарано. Я один из первых выступил против их плана обеспечить себе военные базы на Филиппинах и равные права. Ректо еще молчал, а я уже навлек на себя ярость американцев. И снова, так сказать, оказался в «черном списке» — теперь уже в политическом смысле: всякий раз, стоило мне выдвинуть свою кандидатуру на выборах, деньги потоком текли к моим противникам. С гордостью могу утверждать, что никогда я не побеждал как неоколониалистский кандидат и никогда не проигрывал как кандидат антиимпериалистический — велась ли борьба против американцев, стоявших за Магсайсаем, или против американцев во Вьетнаме. Я знаю, что мог бы стать президентом — ко мне обращались с такими предложениями, но я, увы-, предпочел собственную правоту. А все потому, что некогда, еще молодым и совершенно неопытным политиком, побывал в Давао.