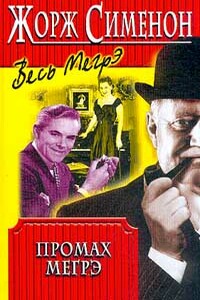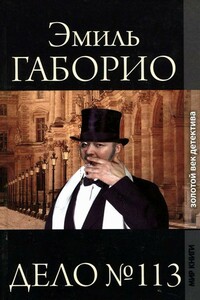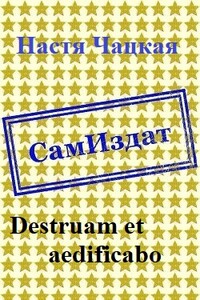— Я его и так знаю. Но есть одна деталь, которая меня удивляет. Приблизительно за полтора часа разбиты семь сигнальных стекол. Но если присмотреться повнимательнее, бросается в глаза, что тот, кто этим развлекался, идет не по прямой, а все время петляет.
— Может быть, он недостаточно хорошо знает Париж?
— Или слишком хорошо. Он ни разу не прошел мимо полицейского участка, хотя они попадались бы на его пути, если бы он так не кружил. А сколько постовых на всех перекрестках!
И Лекер пальцем показал по плану.
— Но он и там не появлялся. Он их обходил. Он рисковал только на мосту Мирабо. Но тут уж ничего не поделаешь: если он хотел перейти Сену, то другого выхода у него не было.
— Наверно, он пьян, — пошутил Годен, прихлебывая горячий грог и дуя на него.
— Но почему, спрашивается, он перестал быть стекла?
— Он несомненно уже пришел домой.
— Тип, который в шесть утра находится в квартале Жавель, вряд ли живет на площади Этуаль.
— Тебя это занимает?
— Меня это пугает.
— Кроме шуток?
Действительно, Лекер, для которого самые драматические ночные происшествия Парижа означали не более чем крестик в записной книжке, был непривычно взволнован.
— Алло! Жавель? Это ты, толстяк? Говорит Лекер… Послушай, позади дома на улице Миша есть домишко какого-то инвалида. Так… Но рядом с ним имеется еще один дом, красный, кирпичный, а внизу бакалейная лавка… Да… Там, в этом доме, ничего не случилось? Консьержка ничего не говорила? Не знаю… Нет, ничего не знаю… Может быть, пойдешь к ней узнать, ну да…
Его вдруг обдало жаром, он погасил не выкуренную еще и до половины сигару.
— Алло! Терн? Вы не получали сигналов о помощи в вашем квартале? Никаких? Только пьяные? Спасибо. Кстати, патруль выехал? Выезжает? Попросите их, на всякий случай, присматриваться, не попадется ли им мальчишка… Мальчишка, усталый, с окровавленной правой рукой… Нет, это не побег. Я вам потом объясню…
Глаза его были прикованы к карте, на которой добрых десять минут не загоралось ни одной лампочки. Вот снова мигнул сигнал, но это оказалось совсем не то. Просто случайное отравление газом в Восемнадцатом округе, на салом верху Монмартра…
Только черные силуэты озябших прохожих, возвращавшихся с ранней мессы, мелькали на улицах Парижа.
Одно из самых отчетливых воспоминаний, сохранившихся у Андрэ Лекера о своем детстве, — это неотступное чувство однообразия. Мир его в то время ограничивался большой кухней их дома в Орлеане, на самой окраине города. Зимой и летом сидел он там у открытых дверей, забранных решеткой, которую отец смастерил как-то в воскресный день, чтобы Андрэ не мог забираться один в сад, где весь день-деньской кудахтали куры и что-то грызли в своем загоне кролики.
В половине девятого утра отец на велосипеде отправлялся на работу в другой конец города на газовый завод. Мать принималась за хозяйство: по заведенному раз и навсегда порядку поднималась в комнаты и клала тюфяки на подоконники — проветривать.
Не успеешь оглянуться, как колокольчик торговца овощами, толкающего перед собой тележку, извещает о том, что уже десять часов. Два раза в неделю ровно в одиннадцать бородатый доктор приходил навещать его младшего брата, который вечно болел. В его комнату Андрэ не разрешалось входить.
Вот и все. Больше ничего. Он едва успевал поиграть, выпить стакан молока, как отец приходил завтракать.
Но отец-то за эти несколько часов должен был объездить несколько кварталов города, собирая плату за газ, повстречаться с множеством разных людей, о которых рассказывал потом за столом. А дома время почти не двигалось.
Правда, после полудня часы бежали, пожалуй, быстрее — быть может, благодаря дневному сну.
— Только я принялась за дела, а уже пора садиться за стол, — вздыхала частенько мать.
Большая комната префектуры чем-то напоминала Лекеру детство, — может быть, тем, что воздух здесь был каким-то застоявшимся, что всех служащих сковывало оцепенение, а звонки и голоса доносились словно сквозь дрему.
Еще зажглось несколько лампочек, еще несколько крестиков занесено в записную книжку — автобусом сбита машина на улице Клиньянкур, — и вот уже опять звонят из комиссариата Жавель.