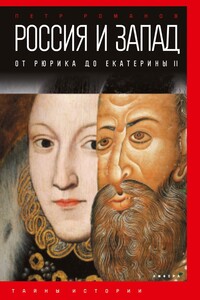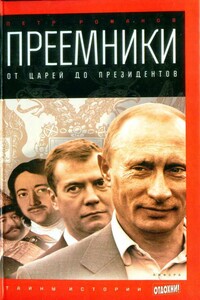Поскольку времени для разговоров хватало, мы с Бобом, глядя на мелькавших пейзан, как-то внезапно заговорили о местных красотках. Даже Боб при всем его патриотизме должен был признать, что без примеси белой крови коренное женское население оставляет желать лучшего. Мордашки, и особенно глаза, нередко бывают изумительно красивы, но вот коренастая, совсем не женская фигура и зачастую откровенно кривые ноги все портят.
Самая красивая, действительно очень красивая перуанка, с которой я знаком и которая однажды выиграла конкурс «Миссис мира», была ростом выше нас с Бобом, имела практически белую, ну разве что чуть смугловатую кожу и великолепную для своих 32 лет (после трех родов) фигуру. Я с ней однажды даже вальсировал на празднике в Арекипе, хотя и чувствовал себя при этом крайне неуютно. Она была босиком, но я все равно утыкался носом в ее подбородок. Но эта дама – редчайшее исключение.
Обычные же, особенно горные, перуанки неотличимо похожи друг на друга: коренасты, низкорослы, заплетают черные (или уже седые с возрастом) волосы в две длинные косы, носят по местной моде шляпы, напоминающие котелок, у всех цветастые пончо, и у каждой второй за спиной висит в мешке-люльке младенец.
Малыш там болтается нередко сутками, пока мать занята. А она занята постоянно: работает в огороде, пасет скот, торгует на рынке, готовит, кормит мужа. Муж тоже где-то что-то делает, но что именно, понять трудно. Наверное, что-то очень важное. Возвращается, думаю, поздно и сразу же принимается за самое главное свое дело, то есть зовет супругу и начинает размножаться. Детей в деревенской семье много. Чтобы хоть кто-то выжил.
А из мешка, то есть из этой люльки, в которой младенца таскают целый день, – ни звука. Нигде не видел таких молчаливых детей. Может быть, потому, что большинству из них обычную соску заменяют листья коки, которые они жуют с малолетства. Позже с этой жевкой за щекой они становятся подростками, мужают, женятся, точно так же уходят, как и их предки, куда-то по важным делам, откуда-то очень серьезные возвращаются, ложатся в постель, делают коренастым женщинам детей, утром опять куда-то уезжают на осле, старятся и умирают.
Для многих жителей гор в голодные годы (не каждый живет в благословенном ущелье между Куско и Мачу-Пикчу) кока – это единственное спасение.
Так что женская красота в таких условиях – дело десятое. Главное выжить и выкормить ребенка.
Наконец мы достигаем самой высокой точки пути, которая называется Ла-Райа, а это, между прочим, 4300 метров над уровнем моря, так что наш «Исследователь Анд» пыхтел не зря.
Здесь и единственная за всю дорогу остановка минут на 15–20. Все пассажиры рванули покупать сувениры на придорожном рынке – главным образом цветастые коврики, на которых чаще всего изображены все те же низкорослые женщины с теми же котелками на головах. Нас рынок не заинтересовал, зато Боб сделал несколько снимков торчащих вокруг покрытых снегом горных пиков. Похоже, присматривал себе новый маршрут – уже для души, без дополнительной нагрузки в виде меня и Джерри.
Кстати о терьере. Единственные, кто кроме нас не бросился вместе с японцами на рынок, оказались сеньора Пилар с мужем. Она просто решила пройтись вокруг вагона и попросила дать ей возможность выгулять пса, уж очень она соскучилась по своим той-терьерам. Я поколебался, но английского джентльмена старой собачнице все-таки доверил. Тем более муж Пилар, почувствовав и поняв мое колебание, успокаивающе заверил: «Не волнуйтесь, я за ними присмотрю».
В результате с нами в вагоне осталась лишь одна дряхлая японка, внешне чем-то похожая на здешних очень старых индейцев. Наверное, прабабушка всей той веселой компании, что умчалась на рынок. Всю дорогу старуха молча смотрела в одну точку. Даже не в окно, а куда-то в неопределенность. Видимо, была сосредоточена только на одном: как бы не умереть в ближайшие пять минут. Зачем родня потащила ее с собой в горы, непонятно. Хотя некоторые утверждают, что в прошлом японцы отводили своих стариков в горы и там оставляли, чтобы те отходили в мир иной, никого не беспокоя. Может, и ее привезли в Анды за тем же самым?