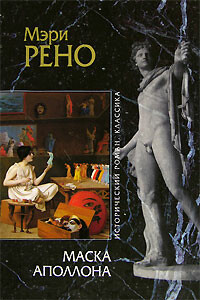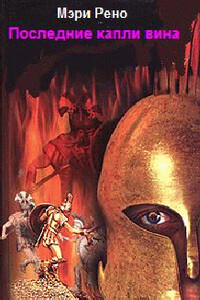Мне вспомнилось, как я пообещал себе завести любовника, когда царь перестал посылать за мной. Мне рисовались тогда тайные встречи в саду, при свете полной луны; шелест шелковых одежд у распахнутого окна; драгоценный камень, привязанный к розе… Теперь я оказался здесь, вдвоем с пехотинцем чужого войска, в простом убежище из наломанных ветвей.
Как-то ночью Дориск поведал мне о мальчике, которого полюбил дома, в Афинах, хоть красота его и была лишь бледной звездочкой в сравнении с ослепительным светилом, добавил он, имея в виду меня.
— Первый пушок еще не успел тронуть ему щеки, когда я обнаружил, что он тратит мои деньги на женщин. Мне казалось, сердце вот-вот разорвется от горя.
— Но, — отвечал ему я, — это же естественно, если твой возлюбленный столь молод.
— Прекрасный чужестранец, с тобой бы это не могло произойти.
Я отвечал ему:
— Да. Торговцы рабами в Сузах потрудились на славу.
Какое-то время он виновато молчал, потом же спросил, сильно ли я обиделся. Он был добр со мной, и оттого я покачал головой.
— В Греции, — поспешил он заверить, — этого не делают вообще…
Но мне не кажется, однако, что грекам есть чем гордиться, пока они продают детей в бордели.
В их лагере мне было легко, ибо греки долго прожили в Персии и старались уважать наши обычаи. Не соблюдая приличий в отношении друг друга, со мною они тем не менее старались сдерживаться. Они почитали также святость рек, набирая воду для умывания и не оскверняя потоков. Свои собственные тела они чистили странным способом, размазывая по ним масло, которое затем соскребали специально притуплёнными ножами, столь бездумно открывая себя чужим взорам, что из скромности я уходил прочь. Запах масла был мне неприятен; я так никогда и не сумел привыкнуть к нему.
Ближе к ночи женщины сооружали какие-то небольшие шалаши для своих мужчин (у некоторых были и дети), готовили им ужин. Днем у них не было возможности повидаться… Что же до мальчиков — прелестных крестьянских ребятишек, купленных у нищих родителей за пару серебряных монет, ушедших от родного дома на многие лиги и растерявших по дороге все персидские понятия о вежливости и благопристойности, — то даже я не хотел задумываться об их дальнейшей судьбе. Те же из воинов, что шли парами и делили поклажу поровну меж собой, сделались любовниками еще в Греции.
Так мы и продолжали путь, полный опасностей, казавшихся тогда великими, и дней через двадцать достигли западных холмов, которыми заканчивалось владычество обледенелых горных вершин. Только тогда мы смогли окинуть взором раскинувшуюся внизу Гирканию. Здесь греки построили настоящий лагерь, крепкие деревянные укрытия; тут они рассчитывали остаться, не привлекая к себе лишнего внимания, пока не узнают, где теперь Александр. Отсюда они рассчитывали выслать послов, а не бросаться прямо к нему в руки.
Уже довольно скоро какие-то местные охотники поведали нам, что македонцы обходят склоны, не выбираясь из леса, — сами горы прикрывают им фланг. Охотники не могли сказать, впрочем, подозревает ли Александр о присутствии здесь греческого отряда.
И один лишь я, когда все вопросы были заданы, спросил охотника, не слышно ли чего-нибудь о судьбе Дария. Мне ответили, что царь погиб; вероятно, это Александр убил его.
Пришло время собираться в дорогу. Где-то неподалеку и старый Артабаз также должен был разбить лагерь, чтобы самому отправиться к Александру. Я порасспросил охотников. Они отвечали, некий персидский властитель действительно стоит лагерем в лесу, на расстоянии одного дня ходьбы на восток; кто именно, они не могли сказать. И он, и все его люди были чужаками в этих краях.
Мы с Дориском распрощались той же ночью; я должен был пуститься в путь на рассвете. Кроме грека, никого на этой земле не волновало, погиб я или выжил, и теперь я наконец почувствовал это.
— У меня никогда не было мальчика, подобного тебе, — сказал он. — И никогда уже не будет. Ты отвратил меня от всех остальных, так что отныне мне придется искать любви у женщин.
Весь день я шел через лес по охотничьим тропам, страшась змей под ногами и леопардов в зарослях, раздумывая по пути, что стану делать, если персы перенесли лагерь. Но еще до того, как солнце спустилось к горизонту, я набрел на частокол, укрытый от глаз поворотом горного потока. Ограда из колючих ветвей окружала жилье, и у единственного прохода стоял часовой со спокойствием, присущим только хорошо обученным воинам. Увидев, что я — всего лишь евнух, он опустил пику и спросил, чего мне нужно. Только тогда я вспомнил, что одежды мои успели превратиться в непристойные грязные отрепья. Назвав себя, я попросил о прибежище на одну ночь. После пути через незнакомый лес меня уже не беспокоило, кто они такие, пусть только позволят войти.