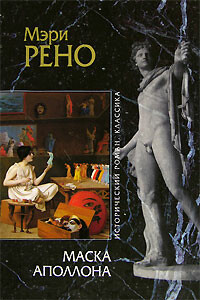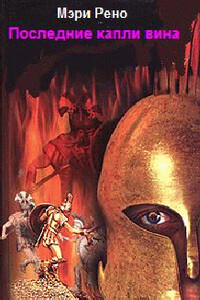Шли мы по ночам. Когда солнце поднималось высоко, никто не мог бы долго продержаться на марше. Разведчики отправились вперед на верблюдах, чтобы найти очередной ручеек или же яму с водою, которых мы должны были достигнуть во что бы то ни стало — или же умереть. Иногда мы набредали на оставленные знаки еще до рассвета, но все чаще и чаще опаздывали — по мере того, как силы наши иссякали, а лошади падали замертво.
Отступившие назад зловещие нагромождения разъеденного ветрами камня казались теперь приветливыми оазисами по сравнению с обжигающим песком. Дневной жар пропитывал сухой воздух, не слабея даже по ночам. Песчаные барханы были слишком длинны, чтобы пытаться обойти их; при подъеме по такому склону на каждые два шага вверх приходился один вниз, но при спуске пешие воины могли скользить. Мы же, всадники, одолевали их шаг за шагом, пока у нас еще были кони, разумеется. Они теряли силы прежде людей: жалких колючек и давно высохшей травы не хватало, чтобы поддерживать в них силы раз за разом достигать воды. Кони не долго оставались добычей стервятников: с той поры, как обозные отряды стали возвращаться с пустыми руками, падшая лошадь превращалась в пиршество.
Мой Лев упал на полпути вверх по песчаной дюне. Я пытался заставить его подняться, но он лег, чтобы уже не встать. Возникнув словно из-под земли, к нам подскочила целая шайка пеших воинов с мечами и ножами.
— Дайте ему умереть! — крикнул я, вспомнив о муле, которого разорвали на куски прежде, чем тот успел испустить дух.
Я показал им кинжал, и они решили, что я собираюсь оставить мясо себе… Этим кинжалом я сделал жертвенный надрез на шее коня, вскрывая вену. Не думаю, что Льву было очень больно. Потом я взял немного мяса для себя и своих слуг; им я отдал большую часть. Мы, служившие самому царю, ели не больше Александра — тот же скудный армейский рацион, — но, по крайней мере, никто не крал эту малость друг у друга.
Мулы исчезали, едва только поблизости не оказывалось ни одного военачальника; ради их мяса воины раздавали собственное добро. Конники укладывались спать рядом со своими лошадьми. Я же слишком поздно узнал об этой предосторожности, и державшийся еще на ногах Орикс пропал, пока я спал. Я не просил у Александра другого коня; лошади теперь предназначались только для воинов.
Двигаясь дальше пешком, я часто наталкивался на Каланоса, вышагивавшего по пустыне, подобно тощей длинноногой птице. Философ отказался оставить Александра и уйти с Кратером; в краю камней он принял от царя пару сандалий. В закатный час, когда все остальные цеплялись за сон, пытаясь насладиться последними минутами отдыха перед снятием лагеря, я видел его сидящим со скрещенными ногами, устремившим взор на заходящее солнце. Александр справлялся с усталостью или же скрывал ее; Каланос, кажется, не уставал новее.
— Попробуй угадать, сколько ему лет, — как-то предложил мне Александр. Я сказал: пятьдесят с небольшим. — Ты ошибаешься, ему уже за семьдесят. Он говорит, что за всю свою жизнь ни разу не болел.
— Удивительный человек, — отвечал я. Философ был счастлив, думая только о своем боге и ни о ком другом, тогда как Александр работал, словно ослик дровосека, думая о всех нас сразу. Я слишком хорошо умел читать в его мыслях; царь клял себя за то, что мы угодили в эту геенну по вине его нетерпения, ибо он не захотел дождаться наступления зимы, прежде чем тронуться в путь.
На исходе третьей недели, когда уже никто не замечал идущих рядом, а переставлял ноги как мог, со мною заговорил один из воинов:
— Пусть царь завел нас сюда, но, во всяком случае, он потеет вместе с остальными. Теперь Александр возглавляет колонну пеший.
— Что? — вздрогнул я. О, если бы я мог не поверить! Но воин сказал правду.
Мы разбили лагерь часа через два после восхода, рядышком со звонким ручьем, в котором журчала настоящая вода. Я поспешил к нему с царским кувшином, прежде чем идиоты рабы могли испортить воду своими грязными ногами. В этом на них никак нельзя полагаться.
Александр вошел в шатер, прямой как палка. Уже наполненная, его чаша стояла наготове. Царь застыл у входа, едва только полог упал у него за спиной, скрыв от глаз воинов, и прижал обе ладони к ране в боку. Глаза его были закрыты. Я поставил чашу и подбежал, вообразив, что сейчас он упадет. Какое-то время он просто стоял, опершись на меня, но затем выпрямился вновь и отошел к своему креслу, где и принял из моих рук питье.