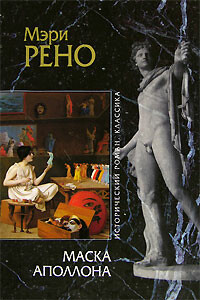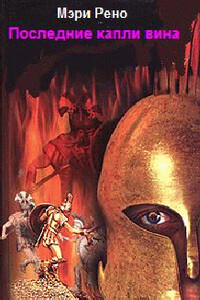Его глаза встретились с моими в полуулыбке, и все же было в них нечто, к чему не могли дотянуться ни я сам, ни кто-либо другой. Возможно, это сумел сделать оракул в Сиве.
Коснувшись его плеча, я поцеловал шрам от выстрела катапульты.
— Бог всегда с нами, — сказал я. — Смертная плоть — его слуга и жертва. Помни о нас, любящих тебя, и не позволь Богу забрать все, без остатка.
Александр улыбнулся и распахнул объятия. Той ночью смертная плоть получила должное. Все было так, словно царь высмеивал сам себя, хоть и был по обыкновению мягок со мною. К тому же где-то рядом ожидало и другое его воплощение, готовое вновь заявить свои права на Александра.
На следующий день царь немало времени провел, запершись наедине с Гефестионом, и старая боль вновь впилась мне в сердце. Затем лучшие друзья царя принялись сновать туда-сюда; чуть позднее специальные посланцы отправились приглашать гостей на большую трапезу на пятьдесят кушеток.
Где-то в течение дня Александр сказал мне: — Знаешь ли ты, что я задумал, Багоас? Этим вечером надо попробовать. Надень свои лучшие одежды и присмотри за персидскими гостями. Они уже знают, чего следует ждать, Гефестион известил их. Просто сделай так, чтобы они почувствовали уважение; у тебя, с твоими придворными манерами, это получится лучше, чем у кого-либо из нас.
Значит, подумалось мне, моя помощь ему тоже требуется. Я надел лучший наряд, который был уже действительно великолепен, с золотой вышивкой на темно-синем фоне; потом пришел одеть Александра. Он надел торжественное персидское одеяние, но к нему не митру, а низкую корону: Александр облачался не только для персов, но и для сородичей.
Если б только, думал я, они придержали вино до десерта! Нам предстояло дело весьма деликатное…
Пиршественный чертог щедро украсили для большого пира. Я приветствовал персидских вельмож, каждого в соответствии с его рангом, и каждого провел к ложу, по дороге воздавая хвалу чьим-то знаменитым предкам, племенным коням и так далее; затем я приблизился к царю, дабы служить ему за столом. Трапеза шла гладко, даже вопреки вину. Блюда были вынесены, и все уже готовились провозгласить здравицу царю, когда кто-то поднялся, чтобы, как решили гости, облечь этот тост словами.
Этот был безусловно трезв. Звали его Анаксарх, и был он скучнейшим из философов, следовавших за нашим двором, из тех, кого греки кличут софистами. По части мудрости, впрочем, они вместе с Каллисфе-ном не составили бы и половину одного хорошего философа. Когда Анаксарх поднялся, Каллисфен был зол, как старая жена, ревнующая к молодой наложни-це: он дрожал от ярости, что это не его пригласили говорить первым.
Конечно, он бы не справился с этой задачей так блестяще. Анаксарх говорил хорошо поставленным, богатым оттенками голосом и, должно быть, заучил свою речь наизусть, со всеми ее оборотами и украшениями. Начал он, заговорив о греческих богах, вошедших в жизнь в обличье смертных и позднее обожествленных за свои славные деяния. Одним был Геракл, другим — Дионис. Неплохой выбор; сомневаюсь, однако, что философ угадал то, о чем знал я: Александр имел нечто от обоих — стремление достичь чего-то, лежащего далеко за пределами, доступными всем прочим; и наравне с этим — красоту, мечты, исступленный восторг… Думал ли я и о безумии уже тогда? Наверное, нет; не помню.
— Эти божества, — продолжал Анаксарх, — в своих странствиях по земле разделяли горести и радости всего человечьего племени. Если б только люди раньше узрели их божественность!
Затем он напомнил гостям о свершениях Александра. Простая истина, пусть известная прежде, задела за живое даже меня. Анаксарх заявил, что, когда богам будет угодно — да задержат они этот день! — призвать царя к себе, никто не станет сомневаться, что ему сразу же будут возданы почести, достойные божества. Почему бы нам не воздать их сейчас, не сделать Александру приятное и не вознаградить его за труды? Зачем ждать его смерти? Мы все должны гордиться, что были первыми, кто поклонился новому богу, так пусть же символом нашего смирения и восторга станет ритуал падения ниц.