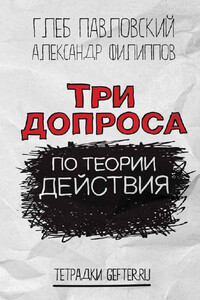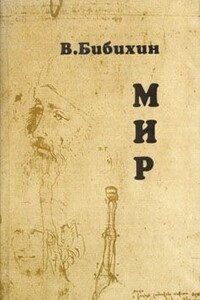Переписка 1992–2004 - страница 43
Но я еду в Германию (туда 22, оттуда 29, хотя приглашен на месяц; и на свои деньги, хотя они предлагают дать на все), где мне будет остро стыдно на мою и нашу неухоженнсть, где дети только что не перекормлены и не переобучены — и что? уверена та Европа, что она на более правильном пути чем русские или цыгане? Правда, я пишу на немецкой машинке по финской бумаге, греческими буквами в романтическом стиле под римско-юридической защитой внутри того, что пытается быть англо-саксонской демократией — но в целом трехтысячелетнее предприятие Европы ведь если не останется навсегда, а вот уж это будет чудом почище европейского, то будет провалом, до которого далеко всем былым цивилизациям. И независимо даже от этого всего, вилами писаного конечно еще на воде, уже сейчас я душой с немереной водой наших ванных и с моим систематическим безбилетным проездом на трамвае троллейбусе в электричке метро (тоже), а не с 6 марками за одноразовый душ и жесткой невозможностью «шварцфарта» в немецком ЭС-бане; я хоть и делаю вид что как все получаю свои доллары в сияющем электронном «Диалог-банке», но вдруг улыбаюсь понимающе охраннику с автоматом и спрашиваю, кто все это устроил, наши или западные, и с него маска спадает, куда-то девается, мы оба деревенские. — Кстати, посмотрите место из архитектора, который мне показался хорошим, похожее на то, что мы говорили о деревянной цивилизации и современных диких замках. — Ах я и рад бы искренно и по-честному признать, что путь у человечества только один, не тот, что упирается в ссылку, тюрьму, голод и психушку, но ведь и Федье, который, к моей радости и спасению, во Франкфурте или где-нибудь меня скорее всего встретит на своей роскошной Ксантии, которую очень любит, тоже смотрит подозрительно на Запад. Сейчас он переводит Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны» и попадает, как и немецкий переводчик, в обличительную сатиру. Я попробую ему объяснить, в чем дело: у Мандельштама звучит неотвратимо, непоправимо, как сам язык, и здесь не обличитель зла, а два равных, даже еще владеющий словом не сильнее ли того в Кремле. Федье говорит, что le texte de Sedakóva commence à m’intéresser furieusement, и я ему повезу большой кусок моего подстрочника (Ольга перепечатала все на машинке с большим интервалом, я вписываю между строк). — 20 сентября у Зенкина в НЛО «круглый стол» «Философия филологии», объявлены присутствующими Аронсон, Гаспаров, Мильчина — я просил меня в объявлении не писать. Вас Зенкин хотел бы пригласить, но знает что Вы едва ли захотите — а вдруг? Зенкин смущается, что до сих пор не напечатал Ваше интервью. Боюсь, пока этот журнал идет вслепую, но он попал на такое богатое в России место.
Всего Вам доброго в «Азаровке»; поклон Нине Васильевне; нам очень бы хотелось подъехать к Вам, не лишайте нас этого шанса. Может быть не сразу со всеми детьми.
Ни на что из Ваших длинных, драгоценных писем я намеренно не отвечаю. Кроме одного. Когда я говорю, что непохоже что потеряю к кому-то интерес, то значит возможность потери уже была и значит больше никогда не будет.
Ваши Владимир и Ольга
Яуза, 20.9.1995
Дорогая Ольга Александровна,
с Рождеством Богородицы! — Я сегодня был на «круглом столе» «Философия и филология» в НЛО, безусловно лидировал Михаил Леонович, которого все единодушно чтили как мировую знаменитость, но неожиданно вдруг фамильярно трепали, задевали. По бестолковости все казалось безнадежным, но Ирина Прохорова, главный редактор, Сергей Ник. Зенкин и Вера Арк. Мильчина здраво оттесняют совсем уж несусветную ерунду, и, конечно, держат профессиональный филологически-литературоведческий уровень, насколько сегодня возможно. Что такое «филологическая концепция слова», спросил сразу Гаспаров. Зенкин: она в кризисе, как вся филология. Гаспаров: у меня не концепция а вопрос. Зенкин: нельзя дать общепринятого ответа. Гаспаров: хоть ваше. Зенкин: предмет филологии слово сакральное, выделенное из профанной массы текстов. Гаспаров: это гипербола. Зенкин: может быть даже ошибка. Мильчина: мы филологи и философы делимся надвое, разговор неизбежно перейдет на личности; человек традиционных взглядов, я сравню философов с лириками. Деррида выплескивает свои ощущения; и в постмодерне есть капризность, когда как ребенку все цветы надоели и хочется разобрать будильник. Литературоведение скорее как роман. Гаспаров: драма. Мильчина: во всяком случае, в филологии есть обстоятельность изложения; в газете 1837 года нет повышенной ценности, но изучать ее нужно. Гаспаров: а все нужное это и есть большая ценность. Сергей Козлов: все начинается с удивления, и филология с того, что она есть, и великая; вообразите, какою была бы наша ситуация, не будь у нас Гаспарова. Что происходит, кризис филологии или филологов? Надо отличать строгую филологию, которая не больше чем подбор параллельных мест, и их интерпретацию, так по крайней мере у Гаспарова. Была идея вообще печатать только параллели без концепций, «скоропортящегося продукта», по Лотману. И Топоров советует набраться выдержки и уметь обходиться без интерпретации. Кризиса филологии нет, но интерпретация в кризисе вместе с идеологией вообще, филология теряет роль ведущего дискурса, конец эпохи Лотмана. Но главное, метод параллелей и точной справки, у филологии не отнять. Подорога: философия тоже в кризисе, разрушение и там. Что-то произошло с текстами, снова нужда в связи с реальностью. Надо вернуться к чтению; интерпретатор профессиональный киллер, убивает всякое удовольствие от текста. Подорога еще долго пресно фантазировал на эту тему. Гаспаров: правильно ли я понял, что чтение это индивидуальный акт переживания, знакомый каждому человеку, и это хорошо, а интерпретация попытка сообщить о своем переживании другому, и это большая гадость? чтение есть перевод текста на язык моего внутреннего мира, и это хорошо? Подорога: чтение — вхождение в мир произведения. Гаспаров: вы уверены, что входите в мир произведения? вы, философ, входите, а филолог втаскивает его в свой внутренний мир? Подорога: вы, величайший филолог, тоже переживаете. Гаспаров: но своими переживаниями я не поделюсь ни с кем! начиная говорить, я занимаюсь такими же вещами, как 2 × 2 = 4. И когда я читаю, то натыкаюсь не на правила, а на слова, одни из которых более, другие менее понятны. Подорога: из моего долгого чтения Достоевского я сделал один простой вывод, в его мире запрещено касание; тема касания, поверхности, телесного меня занимает. Козлов: у тебя, Валера, магия. Гаспаров: ботаник не ставит вопрос об удовольствии от цветка. Филолог читает тексты, да, но дает себе и другим понять не