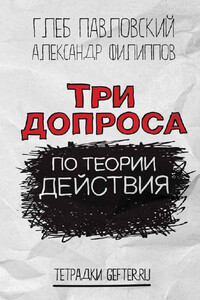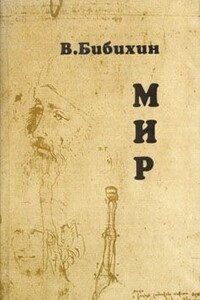Что до «исходного», «зашифрованного» смысла, до «реальности» — разве не к поискам того же сводится все традиционное пушкиноведение (и ахматовское, в том числе), и все другие персональные разыскания? (да и сам Гете не так ли разделял Dichtung и Wahrheit?) Когда Элиот пишет, что поэзия выражает «опыты, которые не являются опытами для практической личности», или Валери, что она — «развернутое в слове междометие», кто им поверит? что она – не пиво, а нектар богов, не египетские котлы, а манна пустынная? Нет, все это только вторичные, «вспомогательные» образы. А первичные — «как у нас». Я не думаю, что идея «реальности» и ее «шифровки» — дань официальной доктрине. Сама эта доктрина (за вычетом совсем безумного революционного пафоса) не столько формировала, сколько отражала то чувство жизни, которое куда старше ее. Я это со всей ясностью поняла, когда читала подряд к экзамену тексты Маркса и особенно Энгельса. Это не доктрина, а рационализация посредственности, которая обходится и без специального «научного метода» в виде истмата и диамата. Так обычно чувствует «нормальный» человек — это безысходным ужасом исполнило меня при чтении то ли Диалектики природы, то ли Происхождения семьи. Так чувствует и «анти-идеологический» постмодернизм. В «тьме низких истин», и это и есть «реальность». Остальное — возвышающий обман, сублимация, надстройка и т.п. Выговаривая циническое, чувствуют себя честными, «беспощадно честными» — или освободившимися от «репрессивных норм». О, какая скука эта честность и эта освобожденность — и какие они однообразные. Может быть, это подростковый шок от встречи с расколдованным миром? после начального волшебства. В материализме есть большая обиженность, что-то вроде мести. «Что есть истина?» — и вышел.
Вместо мудрости — опытность, пресное
Неутоляющее питье.
Общее лето у нас кончается, Гелю с Дашей увозят, Великановы переезжают в Москву и мне очень хотелось бы провести здесь пустынный сентябрь. У меня нет никаких замыслов на эту зиму, не знаю, что делать в Университете и вообще. Путешествий, кажется, не предвидится.
Поздравляю Вас и Ольгу с Успением, очень хочется повидаться с крестниками и Ромой. Поцелуйте их, пожалуйста.
P.S. Да, я внимательно прочла стихи Папы. Они в духе Аверинцева, называют и размышляют, а не являют. Главное ощущение от личности автора — воля — и знаете ли? какая-то надломленность (это из формы), героически преодолевается надломленность. В стихах Аверинцева ее нет, они не доходят до того места, где человек испытывается на надлом, они в благополучном пространстве. Не странно ли, что это место испытания проходят такие безответственные люди, как Моцарт, а великие духовные мужи выходят с увечьем? Наверняка я слишком много на себя беру, так рассуждая и оценивая. Но форма мне очень много говорит, больше, чем я бы хотела. Мне кажется, по форме я узнаю об авторе все – но узнаю в виде междометия, которое не хочется превращать в членораздельную речь. Но при желании это междометие можно распутать вплоть до медицинских диагнозов.
Да, вспоминая Рим и его центральность. Нет, она не в пресловутом рационализме, легализме, дорожной сети — скажу, как непосредственный ее зритель. Она таинственна, не меньше, чем Греция и Германия, и не человеком построена, она явно спустилась с небес, как апостольская слава. Если у меня было предубеждение до встречи, то как раз «от Греции». Но стоит увидеть его темно-рыжие стены… или посмотреть с Авентина, из апельсиновой рощи у св. Сабины… или вечером с Эскуриала… слов нет. То, что Рим сообщает, — не волнение (как Греция или Германия), а покой, идущий далеко в будущее, в saecula saeculorum. Так я запомнила, во всяком случае.
Еще раз прощаюсь,
Ваша
О.
Поклон Вам от тети Нины и от Даши с Гелей.
Яуза, 14.9.1995
Дорогая Ольга Александровна,
настоящие вещи проходят так уверенно, что в них вмешаться невозможно. Радость, жест, задумчивость, углубление, покой — все то, что только и сообщается в поэзии или в слово поверх и помимо слова, — и главное освящение умеют сами себе найти вход где им надо и как им надо («большая вещь сама себе приют»), и неумелой человеческой сообразительности тогда лучше хоть и совсем не поднимать голову и терпеливо ждать, когда и ей в свою очередь будет отпущена грация. — Наш летний дом был одно до Вашего приезда и стал другое после; как и «Азаровка», мифическая невидимая, создана и держится Вашим взглядом, и у меня было и остается (потому что «Азаровка» западает в восприятие пространства как место всегда близкое) ощущение, что я видел не дом, иву, лощину и гору, а Ваш постоянный взгляд из него на них. Как и машина освящена Вашим задумчивым странным принятием ее сползающей по скользкой дорожке, так что Вам не надо было бы к ней и притрагиваться, она была поднята наверх Вашим удивленным запоминанием, которое кроме того еще передалось нам и тоже осталось навсегда вместе с теплым мокрым вечером и туманом. — Всю дорогу в тумане мы и ехали, и она стала как бы существом, протяженным и собранным одновременно. — Я верю что и детки тоже, черед свою возню, впитывали что-то, что возвратится, странно сказать, даже и не обязательно в их жизни. Какие-то звенья в цепи поколений имеют право оставаться неразвернутыми. Или, как мы говорим с Ольгой, человек имеет право быть посредственностью. Другое дело что надо дать ему что можешь. Хотя и тут как сказать. Совсем маленькая девочка, которую средневосточная мама таскает немытую по душному метро, мирная висит у нее за плечами, словно так всегда и надо. Другая, Володикиного возраста, с детской деловитостью протягивает сидящим вязаный башлык ведерком, никто ничего туда не кладет. Я достаю 500 (5 копеек), она подходит, отходит, смотрит, улыбается как все дети, и может быть у нее навсегда останется сложное, родственное отношение к этомy народу, уже не совсем чужому. Однозначно плохо только когда в часы восприимчивости, воображения она должна будет вяло томиться в несвежем углу, вагона или чего-нибудь. Или останется недокормленной, как детки двое нашего двора, которых Ольга когда-то (Вы помните) брала на несколько дней к нам жить и теперь почти каждый день угощает — они едят медленно, старательно, несравненно порядливей наших и всегда все съедают до конца, могут и потом увидев на кухне попросить оставленную нашими сосиску. Их мама пришла из ИТЛ и родила (ее зовут Оля, она в точности ровесница нашей) четвертого Максима, при том что третья, Маша, после года в «доме ребенка» взята какой-то семьей оттуда. Эти двое боятся идти домой со двора, где они от утра до поздней темноты, и мы уже научились узнавать по их лицу, что они скажут: там мамка пьяная, бьет. — Я беру их в лес с нашими; добрая Катя со скрюченными от неизлеченного рахита ручками