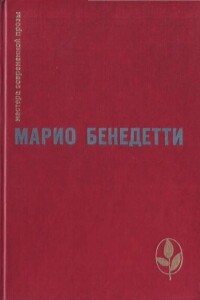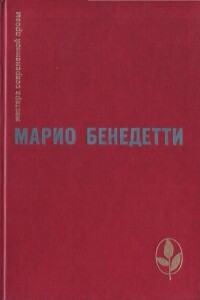— А теперь, мальчики, оставьте меня. У меня дела.
— Простите, Доктор. Очень приятно, сеньор.
Я предпочел не слушать. Они уносят оружие в портфеле. До свиданья.
— Итак, чему обязан я честью сыновнего визита? Издевается, как всегда.
— Ты что-то бледен, Рамон.
— Это пустяк, а вот меня тревожит, что вы ведете газету по дурному пути.
— Ты пришел, только чтобы сказать мне это?
Ты — Я знаю, вы со мной не согласитесь. Но люди в конце концов поймут, что вам лишь бы настоять на своем, а там хоть вся страна провались.
— Слушай, Рамон, я и раньше считал тебя туповатым, но никогда не думал, что ты до такого договоришься.
— Не оскорбляйте меня, Старик, очень вас прошу.
— Неужели ты еще не понял, что у меня с этой страной нет ничего общего? Неужели не понял, что эта страна для меня ничтожно мала?
— Не кричите, Старик.
— Буду кричать, если мне так захочется. Не видишь, что все здесь копошатся в мелочах, в лилипутской дребедени? Как, по-твоему, я сумел нажить свои деньги, столько денег, что хватило устроить тебе туристическое агентство и финансировать твоему брату вертопраху его жалкое образование на экономическом факультете?
— Если вы будете всю жизнь попрекать меня деньгами, которые мне ссудили для агентства, тогда…
— Тогда что?
— Ничего.
— Если я нажил деньги, так это потому, что я мыслю крупно, действую крупно и вдобавок предстаю перед этой гнусной страной с почтенным и достойным лицом, а лишь на такое лицо она любит смотреть. И так далее. И так далее. И вы — мои сыновья? У го — вертопрах, хам, ты — чистоплюй. Да, два сокровища. Скажи на милость, чего вы добиваетесь?
Чего. Дельный вопрос. Возможно, Старик прав. Но я его ненавижу, хотя бы он и был прав. Во всяком случае, он прав в отношении того, что видит вокруг себя, в отношении, например, вот этого сутулящегося, поддакивающего Хавьера, который распускает слухи, приводит к нему нахалов, смеется его шуткам, говорит «О!» и возмущается, когда надо возмущаться, унижается, когда надо унижаться, исчезает как личность, становится эхом, карликом, следом, слепком, осколком, обломком, ошметком. Он прав в отношении того, что видит, потому что не хочет видеть всего остального.
Но страна — это нечто большее, чем экономное использование каждого миллиметра газетной бумаги, чем завтраки в «Эль Агила»[88] с депутатами своего округа, чем неколебимый доллар за одиннадцать песо, чем вспышки фотоаппаратов, чем прейскурант для штрейкбрехеров, чем привольное житье контрабандистов, чем общества отцов-демократов[89], чем культ showman[90], чем священное право голоса, чем день Простаков[91]. Страна — это также больницы с нехваткой коек, разрушающиеся школы, семилетние воришки, голодные лица, хибары, педерасты с улицы Реконкисты, ветхие крыши, морфий на вес золота. Страна — это также отзывчивые сердца, щедрые руки, люди, любящие свой край, парни, готовые взяться за уборку наших нечистот, священники, у которых, к счастью, вера в Христа сильнее, чем вера в «Тайное руководство»[92], народ, к сожалению еще верящий словам, изнуренные тела, которые к ночи камнем валятся на постель и каждый день умирают без некрологов. Вот это подлинная страна. А та, другая, которая Старику кажется ужасно крохотной, — это лишь призрак.
— Привет, Будиньо, давно тебя не видел.
Его рука придавила мое плечо. Не могу вспомнить имени. Знаю, что в колледже он был другом Осей.
— А Осси встречаешь?
— Просто невероятно. Только позавчера говорили с ним о тебе.
— Не может быть.
Как его зовут? Как его зовут?
— Просто невероятно, че. Вспоминали ту зверскую оплеуху, которую тебе влепил герр Гауптманн. Помнишь?
Новизна состояла, нет, состоит не в необычности этой острой, неотвратимой боли, начинающейся где-то над ухом и алчными рывками подбирающейся к веку. Боль можно сдвинуть в область Воображения, спихнуть в другую реальность, как пустячную ношу. Не состоит она, конечно, и в своеобразном самоуспокоении, чей облик порой принимает надежда, осознав свое бессилие. Новизна начинается с боли, но выходит за ее пределы спутанным, растерзанным клубком, чтобы слиться с другими ощущениями — сиюминутными, вчерашними, прошлогодними. Ни в тот раз, ни в другие я не умел испытывать жалость к себе. Стойкость эта возникла давно, в промежутках между периодами ребячливости. Некоторые из моих детских периодов длятся всего несколько дней. С тех пор как Мама меня отшлепала или Папа, обычно такой сдержанный, побагровел от гнева или же от стыда за свой гнев — с тех самых пор я не могу преодолеть чувство дистанции, возникающее во мне, когда меня наказывают, чувство необъяснимой тихой жалости к наказывающему. Именно по этой причине удар ни в чем меня не убеждает, и я, по сути, испытываю известное сострадание к бедному герру Гауптманну, который теперь стоит весь потный и всеми ненавидимый. Я понимаю, каким одиноким должен чувствовать себя запыхавшийся толстый немец под яростными взглядами мальчиков, которые, по обычаю, как бы исполняя элементарный долг солидарности, проклинают его сквозь зубы и только по-испански. Я понимаю: он изо всех сил старается показать, что он учитель, а выглядит как растерянный глупец, окруженный молчанием всего класса. В конце концов до меня дошло, что учитель ждет моего плача. Но я — возможно, из-за того, что слишком сильно этого желаю, — не могу заплакать, мне только удается преувеличенно часто моргать. Справа от себя я слышу свистящее астматическое дыхание Карлоса, у которого от такого грубого обращения душа уходит в пятки и ухудшается и без того болезненное состояние. Без всякого умысла мы с ним оказались союзниками', потому что оба небольшого роста и латинской расы, тогда как другие ученики — рослые германцы. У нас обоих всегда невыразимое желание расслабиться, уйти от беспрерывного напряжения, от этих светлых глаз без вопросов. Когда рано утром мы идем на занятия и в молчаливом сговоре проходим вместе в серую страшную дверь на улице Сориано, в тысячный раз невольно читая надпись «Deutsche Schule»