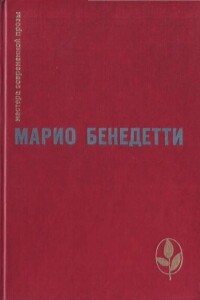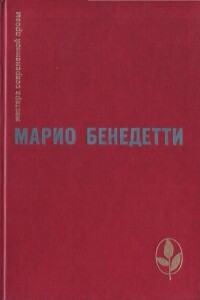— А знаешь, это мне не приходило в голову. Замечательная мысль. Теперь уже хохочет она.
— Трусишка.
На сей раз оборачивается один Окампо и замечает:
— Детки, видать, веселится.
Мирта Вентура, сбросив жакет, щеголяет выигрышными родинками на плечах. Берутти, будто невзначай, поглядывает краешком глаза, но ему немного неловко, и он не способен оценить красоту этой экзотически смуглой спины. И, одолеваемый сомнениями, он говорит:
— Наши заблуждения идут издалека. Еще из школы. Отсутствие религиозности, неуклонно светское воспитание. Вдобавок вся эта белиберда насчет того, что ребенок должен свободно выражать себя. Ох и поиздевались надо мной, когда я ходил в школу. Теперь, если учительница дернет за ухо, всего только за ухо, одного из этих инфантов-недорослей, посещающих начальную школу, ей немедленно учинят следствие.
— А я училась в монастыре, у доминиканских монахинь.
— Вот, извольте. Результат каков? Ты личность, ты девушка незаурядная.
— Спасибо, Берутти.
— Я это тебе говорю не как комплимент, а просто в подтверждение своего тезиса. Вот что мне нравится в этой стране — здесь во всем бог.
В обучении, в Конституции, в расовой дискриминации, в вооруженных силах. Соединенные Штаты — страна насквозь религиозная. Мы же, напротив, страна насквозь светская. Потому мы разрознены. Бог объединяет, светский дух разделяет.
Ножка Мирты, как бы нечаянно, придвигается к туфле номер сорок два Берутти. Он свою ногу не отодвигает и, хотя еще не абсолютно уверен, что она не спутала его ногу с ножкой стола, продолжает свою речь с новым пылом:
— Я не требую, чтобы человек перестал грешить. Errare humanum est [51]. Заблуждение, грех заложены в самом естестве человека.
— Ты имеешь в виду первородный грех?
— Вот именно, ты меня поняла. Но я считаю, есть большая разница в том, грешить ли без чувства вины, почти с радостью, как это делает атеист, и грешить, как это можем делать ты и я, благочестиво сознавая себя грешным перед богом.
— Больше тебе скажу: мне кажется, чувство вины придает греху особую прелесть.
Берутти отодвигает на два сантиметра свою туфлю номер сорок два, и ножка Мирты немедленно возобновляет контакт. Теперь уже не сомневаясь, он уверенно вскидывает голову, поправляет одной рукой немного растрепавшиеся волосы и заключает свою мысль:
— Совершенно точно, особую прелесть. Каким скучным должен быть грех для атеиста. Творишь греховное дело, и никто с тебя не спросит отчета.
— Ужасно. Как подумаю — сердце сжимается.
— Поэтому великие произведения искусства всегда создавались на тему греха.
— Это, по сути, означает, что они создавались на тему бога.
— Ну ясно, ведь без бога греха не существует. И они создавались на тему греха потому, что грех запретен и влечет за собой кару, и в этом его эстетичность: конфликт между запретом и виной. Вернее, искусство — это искра, вспыхивающая от столкновения запрета и кары.
— Изящно сказано.
— В самом деле? А ведь это пришло мне в голову только сейчас, когда с тобой разговаривал.
— Нет, ты замечательный человек, — говорит Мирта, меж тем как ее лодыжка в нейлоновом чулке ощущает тепло другой лодыжки под синтетической тканью брюк.
Ларральде пожимает плечами. В действительности его не очень-то интересует барски ограниченное рассуждение Софии Мелогно. И даже физически она его не привлекает. Но София задалась целью его поучать.
— Не заставляйте меня усомниться в вашем здравом рассудке, Ларральде. Разве что вы меня морочите. Ну скажите, где больше свободы, чем здесь? Ну же, ну, хоть одно местечко назовите, больше не прошу.
— Например, в джунглях Амазонки. И заметьте любопытную вещь: там нет представительной демократии.
— Вот я и говорю: вы меня морочите. Как положено настоящему журналисту. Это единственное, что вы умеете делать: морочить.
— Отнюдь нет, сеньорита, мы умеем и другое.
— Когда вы перестанете называть меня сеньоритой?
— Простите, я думал, вы не замужем.
— Ну конечно не замужем, глупенький. Но меня зовут София. А дома называют Детка.
— Ах вот как.
— И что вы будете рассказывать обо всем, что видите?
— Ну, пожалуй, я вижу не все.
— А почему же?