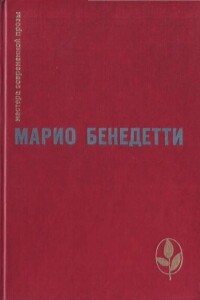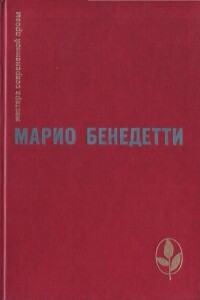Говорил с Эстебаном. Бланка отправилась завтракать с Диего, и в полдень мы остались вдвоем. С большим облегчением услыхал я, что Эстебану все известно. Хаиме ему рассказал. «Видишь ли, папа, я не совсем тебя понимаю, и твое решение связать свою жизнь с женщиной, которая настолько тебя моложе, не кажется мне самым лучшим. Одно только могу сказать твердо: осуждать тебя я не берусь. Я же понимаю — со стороны, когда дело не касается тебя лично, очень легко рассуждать, что хорошо, а что плохо. А вот как увязнешь по шею сам (со мной такое уже не раз бывало), тогда все видится по-иному, чувства обостряются, всплывают на поверхность укоренившиеся в душе старые правила морали, и неизбежные для тебя жертвы и отречения непонятны равнодушному наблюдателю. Дай бог, чтоб у тебя все пошло хорошо, не с виду только, а по-настоящему хорошо. Когда чувствуешь, что тебе есть на кого опереться и сам ты служишь опорой кому-то — это одно из самых сладостных ощущений, дарованных человеку на земле. Я очень плохо помню маму. На собственные мои воспоминания наслоились чужие. Образ ее множится, и я, по правде говоря, не знаю, который из многих по-настоящему мой. Быть может, только один: она сидит в спальне, расчесывает свои длинные темные-волосы, они волнами стекают по ее спине. Вот видишь, как мало. Но с годами я постепенно привык представлять себе маму существом идеальным, недоступным, почти небесным. Она была такая красивая. Ведь правда, красивая? Я понимаю, наверное, мои представления мало имеют общего с мамой, какой она была на самом деле. Но все равно, для меня она такая. И потому мне было немного обидно, когда Хаиме рассказал о твоих отношениях с этой женщиной. Было обидно, но я смирился, потому что знаю, как ты одинок. А потом я наблюдал за тобой, видел, как ты оживаешь, и еще лучше понял, что все правильно. Я тебя не осуждаю и осуждать не могу, более того — я очень рад, если ты сделал удачный выбор и будешь счастлив, насколько это возможно».
Холод и солнце. Зимнее солнце, ласковое, славное. Я дошел до площади Матрис, постелил газету на скамью, испачканную голубями, сел. Рабочий муниципалитета полол газон. Он работал старательно и, казалось, не ведал никаких других стремлений. Что, если бы я стал муниципальным рабочим и полол бы сейчас газон, как бы я себя чувствовал? Нет, это не мое призвание. Если бы мне дали возможность выбрать другую профессию, не ту, которая своей монотонностью изводит меня вот уже тридцать лет подряд, я стал бы официантом в кафе. Ловким, памятливым, образцовым официантом. Я бы сумел найти способ запоминать все заказы. Приятно, наверное, видеть каждый день новые лица; приходит человек, ты весело болтаешь с ним, он выпивает чашку кофе, уходит и никогда больше не возвращается. И каждый прекрасен, силен, интересен. Просто сказка — работать с людьми, а не с цифрами, каталогами, сведениями о реализации. Если бы удалось мне попутешествовать, проехать по чужим городам, повидать чужие края, полюбоваться памятниками и произведениями искусства-все равно больше всего меня привлекали бы Люди. Разве не интересно вглядываться в лица, ловя выражение радости или печали, наблюдать, как каждый спешит по тропе своей судьбы, толкается, рвется вперед, как торопятся они, ненасытные и прекрасные, забыв о бренности своего существования, о своем ничтожестве, живут безоглядно, не замечая, не желая замечать, что, в сущности, все мы в западне. Я, кажется, никогда до сих пор не обращал внимания на площадь Матрис. Наверное, я проходил по ней тысячу раз, может быть, зачастую бранился, что приходится делать крюк, огибая фонтан. Видел я и раньше площадь Матрис, разумеется видел, но ни разу не остановился, чтобы вглядеться в нее, вдуматься, почувствовать, понять. Долго стоял я, постигая воинственную мужественную душу Кабильдо,[17] созерцая лицемерно безмятежное лицо собора, смятенное волнение деревьев. И тогда почувствовал со всей четкостью и глубиной: вот он, мой город, родной навсегда. В этом я, по — видимому, фаталист (во всем остальном, кажется, нет). У каждого есть свое, единственное на всей земле, место, тут он и должен вносить свою лепту. Я — здешний и здесь вношу свою лепту. Вон тот прохожий (пальто длинное, уши торчат, сильно припадает на ногу) — он такой же, как я. Он еще не знает о моем существовании, но настанет день, он меня заметит, посмотрит прямо в лицо, увидит со спины или в профиль, ощутит что-то общее, скрытую связь между нами, и мы сразу поймем друг друга. А может, тот день никогда не настанет, прохожий не почувствует дыхания этой площади, которая нас сближает, связывает, роднит. Но все равно, как бы то ни было, он такой же, как я.