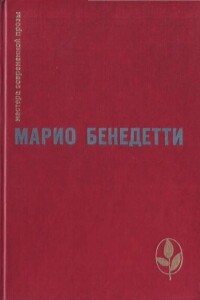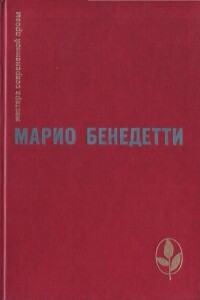— Напрасно он это сделал.
— Ладно, хватит. Теперь вставай.
— Напрасно он это сделал.
— Ради бога, перестань это повторять.
— Почему он не убил меня?
— Наверно, тоже думал, что напрасно это делать.
— А я его любил, знаешь? Как он этого не почувствовал?
— Трудновато было почувствовать.
— Когда он был маленький, он боялся темноты и ночью кричал. Тогда я заходил в его комнату, включал свет, и он успокаивался.
— Мы все боимся темноты. Но не кончаем с собой.
— И он меня любил, понимаешь? Он меня любил. Я знаю, что, глядя на меня, он чувствовал во мне защиту. Но однажды, когда Рамон был уже подростком, я вдруг понял, что он меня ненавидит, и вдобавок понял, что ненависть эта не новая.
— Ненависть никогда не бывает новой. Она с самого своего возникновения давняя, изношенная, изъезженная.
Черный носок растянулся, сполз с ноги. Мужчина на кровати говорит, сжимая губы, прикрывая глаза. Глория смотрит на свои часики. Двадцать минут седьмого. Никогда она не испытывала такого нетерпения. Как будто через минуту-другую последняя возможность вернуться к жизни промчится мимо нее, как поезд или автобус; как будто если она упустит эту возможность, то будет обречена остаться с этим косноязычным, заладившим одно и то же, бессильным, дряхлым стариком, таким же эгоистичным и черствым, как и прежде, однако без прежней силы, оправдывавшей его жестокость. После пятидесяти лет никто не вправе раскаиваться. Это было бы слишком удобно, думает Глория. В шестьдесят с гаком единственный путь — утверждаться в том, чем ты был. Иное поведение — вроде внезапного благочестия у бывших распутников.
— Неужели это из-за матери?
— Не говори мне о матери.
Еще чего не хватало: чтобы он говорил о своей жене, о той, кого он предпочел ей, Глории, обо всем том, что ее оттеснило в тень. Но как он не понимает? Сын бросился с десятого этажа, но она-то, Глория, жива. То есть хочет жить. И откладывать это не собирается. Ее желание четко, ясно, оно требует действовать немедленно. Встретить мужчину своего возраста, забыть об этом лежащем на кровати старике и о его дряблом теле, серых скулах, сползающем носке, незастегнутых брюках, противно обнаженном животе, поджатых губах, о его бесконечно повторяющейся фразе.
— Напрасно он это сделал.
— Замолчи.
— Нет. Я должен говорить. Иначе я сойду с ума.
— Ну и пусть. Замолчи.
— В убийстве еще есть смысл, но не в самоубийстве.
— Замолчи.
— Я видел его голову на плитах тротуара. Там была лужа крови. Когда я приехал в издательство, он всего три минуты как разбился.
— Ты мне это уже говорил.
— Но я тебе не сказал про лужу крови. Между двумя плитами была щель, и, когда я подошел, по ней еще текла, тихонько так текла красная струйка. Так мало времени прошло, что кровь не успела остановиться. Все еще текла. Представляешь?
— Ну и что?
— То есть, если бы я пришел на десять минут раньше, этого могло не случиться.
— Но ты не пришел. И это случилось.
— Только там, когда я его увидел, только там я понял, что волосы у него совершенно того же цвета, как в детстве, когда он ночью пугался темноты и я укрывал его. Прежде я этого не замечал. Когда ему было десять лет, он любил, чтобы волосы были гладко причесаны. А мать…
— Не говори мне о матери.
— А мать прижимала волосы рукой и делала волну. И он бесился. Но волна осталась. И когда я увидел его голову на плитах тротуара, волосы были совершенно того же цвета. Он не пользовался ни помадой, ни брильянтином — ничем. Только водой. И когда волосы высыхали, у них был чуть рыжеватый оттенок.
— Встань.
— Недавно он пришел ко мне и сказал: у вас грязные дела с Молиной.
— И это была правда.
— Конечно. У вас грязные дела с Молиной, и некий журналист намерен их разоблачить. Это был Ларральде. Он написал разоблачение, а я заставил уволить его. И ничего не случилось. У вас грязные дела с Молиной, сказал он. И может быть, в ту минуту я упустил единственный оставшийся случай. Если бы я уступил…
— Но ты не уступил.
— Я ему сказал обо всем. Напомнил о деньгах, которые дал ему на агентство. Ну ясно, этим я его доконал.
— Замолчи.
— В любом случае напрасно он это сделал.