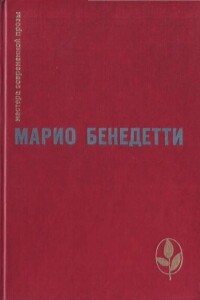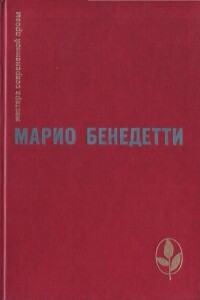— Сеньор Будиньо, вот чеки.
Но нет, не только это. Я должен убрать Старика. Как странно, что он в моей власти. Как странно иметь власть. В какой-то мере это род счастья, счастья темного и нездорового, — до последней секунды знать, что я могу нажать на гашетку или помиловать его, и вдобавок знать, что не помилую. Нет, не помилую. Единственно верное — вот это не-помилование. Будь я так же уверен в боге, как в этом не-помиловании, я бы подверг себя вечному проклятию. Но вечного проклятия нет. Ничего нет. Существует лишь «ничто». А «ничто» может быть не проклятием, а освобождением. Вечного проклятия нет, но есть извечная страсть испытать свою совесть, проверить, где ее последнее дно, проверить, как называется ее трепет перед одним из смертных грехов. А вдруг после всего я не буду чувствовать себя виновным? Эту возможность я не отвергаю. Чувство вины может быть связано с ненавистью. А ненависть я испытываю, и она меня не тяготит. Я хотел бы освободиться от ненависти лишь в тот миг, когда нажму на гашетку, никак не раньше. Я хотел бы, чтобы мое преступление превратилось в акт любви. Убить Старика, чтобы воскрес Папа, который мне купил у Оддоне десять коробок с солдатиками, который понял, что я видел смерть Виктора, который каждую ночь приходил избавлять меня от темноты. Теперь же Старик так отвратителен, что мешает мне думать о Папе, заслоняет своим ненавистным присутствием милое мне присутствие Папы, вытесняет своей непробиваемой властностью чувство безопасности, которое мне дарил Папа. Если мне удастся превратить отцеубийство — как нелепо называть так акт освобождения, — да, если удастся превратить отцеубийство в акт сыновней любви, я знаю, что не буду чувствовать вины, знаю, что выдержу взгляд Густаво, не отводя глаз, потому что жертва будет принесена и ради него. Хоть бы он это понял. А если я смогу выдержать взгляд Густаво, меня уже не смутит ни взгляд Уго, ни взгляд Сусанны, которые будут поражены, но никогда не простят мне взрыва в самом средоточии их священнейших привычек, их неприкосновеннейшего комфорта. Густаво — вот суждение для меня важное, вот прощение, меня оправдывающее. И еще есть Долорес, но она сразу поймет, хотя в первую минуту будет ошеломлена и оцепенеет, но во вторую убедит всех, будто оплакивает трагическую участь бедного своего свекра, а в третью, обезумев от горя, сбежит в свое ненадежное одиночество и у себя в комнате погрузится в спасительное раскаяние, потому что мой поступок, вызванный любовью к Папе, любовью к памяти Мамы, даже к этой стране, будет также и прежде всего актом любви к ней, ведь при всем его значении и величии я мог бы им пожертвовать только ради нее, только ради права иметь ее рядом, смотреть, как она спит, овладевать ею, видеть ее улыбку, звать ее, слышать, как она зовет меня, протягивать во сне руку и знать, что она здесь, видеть ее глаза, о боже, как я смогу жить, не видя ее глаз, но также как я смог бы жить, видя ее глаза и не владея ими, не имея права при составлении описи своей собственности поставить рядом с ними галочку. Ее раскаяние усилится, когда она узнает, что могла сказать «да», когда узнает, что могла сдвинуть стрелку тех весов, которые мы именуем судьбой. И тогда она меня полюбит, окончательно и страстно, в особенности потому, что поворота вспять быть не может, смерть не уничтожишь мелочными сожалениями, но еще и потому, что будет сознавать, что я, совершая мой спасительный акт, окончательно погубил себя в глазах окружения семейного, политического, социального, коммерческого, национального, то есть всякого окружения; ее раскаяние будет расти из ночи в ночь, и я знаю, что чем дальше, тем подробнее она будет воссоздавать единственную нашу встречу и отчаиваться, как отчаивался я в эти недели, вспоминая слова, жесты, касания, ласки, стоны, молчания. Я не хочу, чтобы она себя мучила, как мучил себя я, но в конце-то концов, может быть, будет справедливо, чтобы и она почувствовала сжимающие сердце тиски. Я не хочу, чтобы она, бедняжка, мучила себя, а только чтобы она меня любила, но, к сожалению, любовь — это когда сердце твое сжато в тисках.