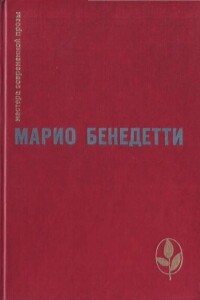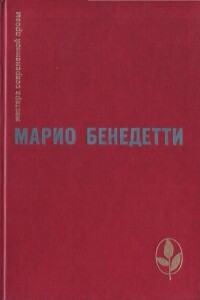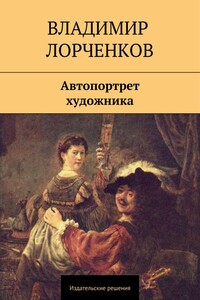Организация дела превосходная. Фальшивые документы, удостоверения, рекомендации; создается впечатление, что между узниками и охранниками нет разницы, будто и те и другие в равной степени мошенники. Жизнь в тюрьме излечила меня навсегда. Больше никогда не повторится, уверяю вас, больше не повторится. Вот минеральная — холодная. Как хочется пить. Наверно, от чесночной приправы к чурраско. А теперь еще два квартала, до машины. Ох, я и забыл, что сегодня забастовка. Я же мог предложить пышнотелой секретарше подвезти ее, она, кажется, живет где-то в Бусео[170]. А пожалуй, лучше, что не предложил. Она могла бы неправильно понять. И, поняв неправильно, поступила бы правильно. Сколько народу — одни идут рядом со мной, другие сидят на скамейках на площади и бросают крошки голубям, некоторые вдруг останавливаются и глядят в пространство, а потом идут дальше, разговаривая сами с собой и размахивая руками. Что таится в каждой из этих жизней? Каждый человек несет в себе мир своих проблем, своих долгов, своих разочарований, своих обид, своих грез о том, каким он хотел бы стать, и мыслей о том, какой он неудачник. Вот так и я обдумываю все одно и то же, кружусь в пределах шести-семи образов: Старик, Долорес, эта непонятная страна, Густаво, ну конечно, Сусанна, мысли о смерти, о боге, или кто там есть; и как я вращаюсь вокруг своего центра и как мне кажется, что мир начинается и кончается на мне, что все существует лишь как функция моих сомнений, так и каждый из этих бедняг полагает, будто его драма — это Великая Драма, когда в действительности никому до него нет дела ни на земле, ни на небесах. Вот наконец машина. Счастливица она. Все ее проблемы решает механик. Но когда мне изменяет какое-то чувство — ну, скажем, поршень или выхлопные клапаны износились — или тоска нападет — скажем, зажигание барахлит, — нет такого механика, который мог бы меня починить.
Сегодня по Рамбле. Никакой Канелонес. Здесь славно, дует ветерок. Во всяком случае, это ложное лето похоже на настоящее — в сумерки становится прохладней. А если, например, теперь подумать о Долорес? С самого утра у меня вертится в голове стихотворение, которое написал Варгас, когда влюбился в ту смугляночку с архитектурного факультета. Миниатюрная, прелестная, улыбчивая, но — замужем. Потом, когда все прошло, он дал мне напечатанную на машинке копию и сказал: думаю, что это — самое настоящее из всего, что я написал, и вряд ли я когда-нибудь напишу лучше. И в общем-то он был прав. В ту пору он писал довольно много, но потом пошел служить в Республиканский банк, а там стал государственным деятелем, женился, обзавелся кучей детей. Но стихи хороши, ничего не скажешь. Я их наизусть выучил, и мне было жаль, что не о ком думать, когда их произношу. Теперь есть о ком. Но я не уверен, что вспомню. Попробуем.
Затем что ты со мной и не со мной затем что в мыслях ты моих затем что ночь глядит на нас в сто глаз затем что ночь проходит не любовь затем что ты пришла забрать свой образ и краше ты чем образ твой любой затем что с ног и до души ты хороша затем что от души со мною ты добра затем что в гордости своей нежна ты нежная и милая а сердце панцирь твой затем что ты моя затем что не моя затем что на тебя смотрю и умираю и горше смерти мне когда тебя не вижу о любовь когда тебя не вижу затем что ты везде и ты всегда но истинно живешь лишь где люблю тебя затем что рот твой кровью ал и холодно тебе любить тебя я должен о любовь любить тебя я должен хотя бы эта рана жгла как две хотя б искал тебя не находя нигде хоть эта ночь пройдет и ты со мной и не со мной.
Вот и вспомнил, и это для тебя, Долорес. Сочинил другой и для другой, но и я сочинял для тебя. Да, сочинил другой, ведь я не умею высказать то, что чувствую, но я благодарен тому, кто способен высказать это за меня. Так тоже можно выражать свои чувства. Варгас, наверно, уже не помнит, что написал это. А я помню и тем самым делаю стихи своими. «Затем что ты моя затем что не моя». Никто не скажет лучше, правда? А «сердце панцирь твой». Это для тебя, Долорес. Я уже не знаю, кто это сочинил. Может, Варгас был роботом, который это сочинил для меня. А может, я — Варгас, а Варгас был мной. Одно знаю точно: смотрю на тебя и умираю, и горше чем умираю. Одно знаю точно: что ты существуешь, Долорес, в каком-то уголке этого дня, в каком-то уголке этого мира, одна или с кем-то, но без меня. Одно знаю точно: что ты лучше, чем все твои образы, чем все те образы, в каких ты являешься мне. Неужто я ждал этой минуты одиночества, без гнетущей спешки и без свидетелей, чтобы сказать себе прямо и открыто, что я влюблен? В сорок четыре-то года? Может быть, лишь полувлюблен? Потому что она говорит «нет», говорит, что меня не любит. А чтобы быть по-настоящему, вполне, целиком влюбленным, надо ясно сознавать, что и тебя любят, что ты тоже внушаешь любовь. Стало быть, полувлюблен. Но как? Какого рода эта любовь? Не такая, как в отрочестве, о нет. Тогда это было некое радостное безумие, исступление, несшее в собственном накале зерно самоуничтожения, сочетание игры и секса. Теперь — другое. Секс, конечно, есть, как не быть. Долорес влечет меня физически. Чуть прикоснется, положит руку мне на плечо — то не любовный жест, а просто сопровождение разговора, — и что-то во мне вздрагивает, я мгновенно внутри откликаюсь на прикосновение этой кроткой, теплой, манящей кожи, на миг и мягко прижимающей волоски на моем предплечье или запястье. Но больше того. Когда она смотрит на меня, мое волнение еще острее, чем когда она притрагивается. Вдобавок трогала она мою руку не часто, и повод к тому бывал самый будничный. Зато смотрит она на меня всегда, никогда не избегает моего взгляда. У нее потрясающая способность целиком воплощаться в своем взгляде, жить во взгляде, чувствовать во взгляде, симпатизировать во взгляде. Она мне симпатизирует, в этом я убежден. И в симпатии ее столько тепла, жизни, ясности, что она почти равна любви. Возможно, что женщина с более бедной или более скованной душевной жизнью в миг любви, в лучший свой миг любви, способна достичь такого же уровня общения и силы чувства. Долорес же, испытывая лишь симпатию, равна другой женщине в зените ее любви. Но и этого недостаточно. Хотя я улавливаю, или думаю, что улавливаю, силу чувства Долорес, мне симпатизирующей, я слишком хорошо знаю, что это не ее максимум, что ее максимум — это не просто симпатия, даже самая сильная, но любовь. И я не могу удержаться от предположения: если простая симпатия со стороны Долорес так меня волнует, то как волновала бы меня любовь Долорес, любовь в ее максимуме, в полном расцвете? И когда думаю о такой возможности, у меня кружится голова, мутятся мысли. Может, завтра или послезавтра я успокоюсь. Но сегодня я страдаю как проклятый. Еще вчера я не знал, что могу так любить. Но что же произошло? Неужели все потому, что я заговорил, сказал ей? Возможно. Сегодня, по мере того как я с ней говорил, я чувствовал, что все более приближаюсь к истине, словно, говоря с ней, я втолковывал эту истину самому себе, убеждая в ней навеки мое сердце, то самое сердце, что теперь у меня болит, да, физически болит, этот полый мускулистый орган, который как-то ухитряется ведать одновременно и кровью, и чувствами. Если бы хоть сейчас, придя домой, я мог побыть один, чтобы никто со мной не говорил. Но нет, наверняка придет Сусанна пересказывать сплетни со слов Лауры, или жаловаться, как она уморилась из-за того, что осталась без прислуги, или просить меня, чтобы я серьезно поговорил с Густаво, у которого все больше друзей — анархистов, или социалистов, или коммунистов, или сообщить мне, что звонила тетя Ольга и говорила, какой я добрый, или, что хуже всего, предложит поехать в Карраско ужинать, потому что она не в силах заняться кухней. А я сегодня не хочу никуда. Хочу поужинать поскромней, какой-нибудь салат, и ничего больше, а потом пройтись, только чтобы одному. Хорошо бы Сусанна, когда спрошу, не пойдет ли она со мной, сказала, как бывало много раз, что она очень устала и хочет рано лечь. Мне бы пройтись одному по Рамбле, полюбоваться свечением волн или полежать навзничь на пляже. Но нет, я уже вижу: Сусанна ждет меня у калитки, и это не сулит ничего хорошего. А Сусанна еще недурна, несмотря на свои тридцать девять лет, которые ей исполнятся на следующей неделе. Но дело не в этом.