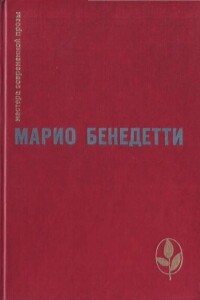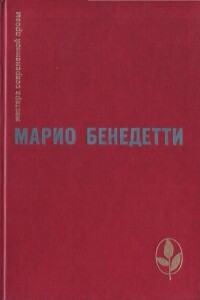— Скажите мне, сеньорита, только вполне откровенно, как вы считаете, мы ведем здесь жизнь провинциальную?
— Я, сеньор, знаете ли, думаю, что…
— Ясно. Вы не знаете других стран, вам не с чем сравнивать.
— Я, сеньор Будиньо, была только в Буэнос-Айресе и в Порту-Алегри.
— Превосходно. И, сравнивая нашу жизнь с жизнью в этих городах, считаете ли вы, что у нас жизнь провинциальная?
— В каком смысле, сеньор?
— Например, в смысле развлечений.
— Я-то и здесь развлекаюсь, сеньор. Но не знаю, о таких ли развлечениях вы спрашиваете. Наверно, вам надо…
— Нет, нет, нет. Как раз это я и хотел узнать.
Пышнотелая, только пышнотелая. И до чего глупа. А еще хотят, чтобы люди верили в существование бога. Как это женщина может быть такой полненькой, хорошо сложенной, с таким бюстом, таким ртом и — без мозга? Ей бы надо вставить мозг на транзисторах. Или вернуть ее богу как фабричный брак. Во всяком случае, ее слюнявому жениху не приходится лапать ее мозги.
— Я съезжу в центр поесть, сеньорита, и вернусь часа в два.
— Вы не забыли, что на три часа пригласили сеньора Риоса? Как это у нее есть память, если нет мозга? Может, ее память помещается в бюсте? Места хватит, еще с излишком. Там у нее поместились бы и память, и желудок, и мениски, и поджелудочная железа — все.
— До свиданья, Тито.
— До свиданья, Доктор.
— До свиданья, Пене.
Поразительно, как много у меня знакомых в Старом городе.
— Чао, Ламас.
Это в самом деле Ламас?
— До свиданья, Вальверде. Как дела у славного «Ливерпуля»[147]?
Единственные две темы, о которых можно с ним говорить, — это рыбная ловля и «Ливерпуль». Неужели на самом деле кто-то может получать удовольствие от рыбной ловли — кроме рыбы, удирающей с половиной наживки?
— Чао, Суарес. Что скажешь об этой жаре в середине апреля?
— До свиданья, малыш. Как поживает Старик? Единственный раз я ловил рыбу, когда мне было восемь лет, и единственную рыбешку, которую я вытащил, мне насадил на крючок дядя Эстебан, подплыв под водой. Вот это подвиг.
— До свиданья, Тересита. Всегда хороша — как мама. До свиданья, донья Тереса.
Поразительно, как держится эта старушенция. До сих пор она, пожалуй, привлекательнее дочери. Однако какая жара. В пиджаке я погибаю. А душ не смогу принять до самого вечера.
— Значит, ты говорил с отцом?
— Говорил. Ничего не добился.
— Но про Ларральде ты сказал ему?
— Это его совершенно успокоило.
— Не понимаю.
— Затея Ларральде не выгорит. У Старика против него три вида оружия: его брат, который на выборах пятьдесят восьмого года значился в списке компартии, дядюшка, который сколько-то там лет назад похитил пятьдесят тысяч долларов в банке и был схвачен Интерполом, да сестрица Норма Ларральде. Ты ее знаешь?
— Только по виду. Она секретарша Эстевеса.
— Секретарша и подруга.
— Этого я не знал.
— Понимаешь, такая информация, да в руках Старика.
— И ты думаешь, Ларральде сдастся?
— В этих делах Старик никогда не ошибается. А ты как считаешь?
— Откровенно говоря, не знаю. Я об этих трех фактах не знал. Они впрямь существенны и могут подкосить Ларральде. Но, с другой стороны, сделка очень уж крупная. Пожалуй, Ларральде сумеет добиться поддержки друзей из «Ла Расон».
— Вряд ли. Эти парни никогда не сжигают мостов. Вот увидишь, в последний миг они пойдут на попятную. Если предположить, что Ларральде опубликует разоблачение, пострадает он. У Старика и у Молины есть чем его раздавить. Старик рассуждает так: Ларральде — журналист толковый, деятельный, но по сути он всего лишь человек, желающий жить спокойно, и он лучше, чем кто-либо, знает, что если нападет на Старика, то у Старика есть три компрометирующих факта, чтобы отразить атаку, и ему уже не жить спокойно. Старик говорит, что Ларральде все это поймет, как только с ним анонимно поговорят по телефону и объяснят ситуацию. А ты не наберешься смелости?
— Я? Ты с ума сошел. Если Ларральде, человек опытный, по твоему пророчеству, не решится, как же ты хочешь, чтобы решился я?
— Но у Ларральде есть три уязвимых пункта. Какой у тебя уязвимый пункт?
— У меня их нет. Но в этом и нет надобности. Подумай сам, ведь разоблачение надо делать официальными путями. А какая газета возьмет у меня, Вальтера Веги, который для них никто, такую статью со всякими подробностями? Кто меня знает? Чтобы замять дело, им даже не понадобится мне угрожать или отыскивать что-либо позорное в моей семье, а такое, возможно, тоже имеется. Зачем? Просто мой материал затеряется, а меня похоронят в архиве или в худшем случае объявят коммунистом, и чао! — ты же знаешь, теперь даже нет необходимости доказательства приводить. А ты? Ты решился бы?