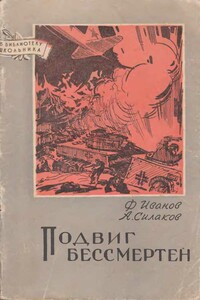Гордо, не смотря на открывшего дверь швейцара, Мандельштам, за ним я вошли в гостиницу.
- Дома Тихонов, который живет в двести двенадцатом номере? - спросил Мандельштам.
- Он живет не в двести двенадцатом, а в триста двадцатом. Дома.
Мандельштам стал подниматься. Но служитель остановил его и предложил снять калоши. Снял. В этот момент человек, указавший номер Тихонова, подбежал снизу:
- Вы просили Тихонова? Я ошибся. Он не в триста двадцатом, а в триста третьем, и его нет дома.
Мандельштам невозмутимо:
- Недаром мне показалось странным, что человек в час дня может оказаться дома, не правда ли?
И начал искать калоши, которые услужливый портье уже убрал в сторону. Нашел их, вставил в них ноги. Некоторое время простоял, не двигаясь, видимо, размышляя, можно ли не платить за такой короткий срок хранения калош. Должно быть, решив, что не платить можно, и улучив секунду, когда служитель отвернулся ?
Мандельштам сделал быстрый и крутой поворот "кру-гом" и, намеренно медленно шагая, чтобы служитель не заподозрил его в желании скрыться, пошел по направлению к выходу
- Я хотел поговорить с Тихоновым о "Шуме Времени", который я хочу переиздать в "Круге"...
Мы пришли на почту. У окошка стояли человек десять. Я занял очередь, а Мандельштам быстро подошел к столу, за которым люди составляли тексты телеграмм, наклонился к столу из-за спины какого-то мужчины и торопливым движением выхватил из-под его руки бланк. Бланк оказался уже исписанным сидящим за столом человеком, и тот удивленно, с явным неудовольствием мгновенно протянул за листком руку. Сконфуженный Мандельштам принялся извиняться.
- Это верх рассеянности... Бога ради простите!
Найдя наконец чистый бланк, он отошел в угол комнаты, к конторке, и начал писать. Через несколько секунд я услышал его жалобный возглас:
- Павел Николаевич!..
- Осип Эмильевич?..
- Подойдите сюда!
Я оставил очередь, подошел. Он кончиком пера показал мне расплывшуюся букву "я" и растерянно, как-то застенчиво спросил:
- Ведь это уже не "я"?
- Да, это уже клякса.
Пошел искать новый бланк. Наконец телеграмма в двадцать два слова, кончавшаяся словами: "пишу ежедневно", была составлена, и Осип Эмильевич мгновенно высчитал, сколько она стоит. Я всыпал ему в перчатку, сквозь дыры которой виднелись бледные пальцы, серебряную мелочь. Телеграмма отправилась в Ялту, а мы вышли и зашагали по Невскому, беседуя о лопнувшем Госиздате, об уезжающем в четырехмесячный отпуск Ионове, чья мечта, по мнению Мандельштама, стать после всех этих событий редактором "Красной Нови", и о Пастернаке, с которым Мандельштам провел вчера весь день в Москве и который прочел ему огромное количество стихотворений.
10.05.1926
Вечер у Спасских.
Вечер оказался лучше, чем я думал, потому что хорошо играла на рояле Юдина, и музыка, которой я давно не слышал, дала мне несколько минут гармонического существования. А в 1-м отделении читали прозу и стихи К. Федин, М. Кузмин, Б. Лившиц, К. Вагинов, С. Спасский и Н. Баршев.
Домой вчера вернулся в 1-м часу и до 4-х читал Шенье и Пушкина.
А сегодня - вот уже 4-й час ночи, и я кончаю эту запись. В окно уже брезжит предутренний свет - светлеет очень быстро. Скоро придут белые ночи. Хороши они были в прошлом году...
12.05.1926
Поехал к А. Н. Толстому. Он еще не встал. Ждал его в столовой. Вышел он в белой пижаме. Пил с ним кофе. Толстой рассказывал медленно, но охотно о Гумилеве, и о дуэли его с Волошиным, и о подноготной этой дуэли, позорной для Волошина. Я спросил Толстого, есть ли у него автографы. Он предложил мне перерыть сундук с его архивами - письмами. Пересмотрел подробно все - нашел одно письмо. "Вам вернуть его после снятия копии?" - спросил я. Толстой махнул рукой: "Куда мне оно! Берите".
Толстой знает, что у него будет собственная биография и почему не сделать хорошего дела для биографии другого? Звал меня обедать, обещая за обедом много рассказать о Гумилеве, сказал, что записать все мне придется в несколько приемов...
20.05.1926
К АА должны были прийти Гуковские1 и Данько2. Я ушел на вечер Маяковского.