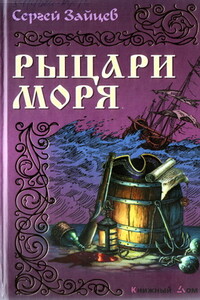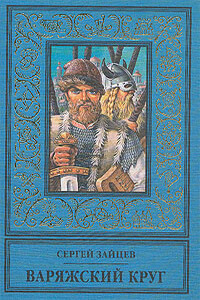Не сделали и десяти шагов, как наткнулись на труп — давнишний, если можно считать давнишним срок в пять — семь прожаренных солнцем дней, труп, источающий тяжкий дух, труп безобразный — скорее представляющий собой неуёмное копошение мух и личинок, принявшее приблизительные человеческие формы. Вид этой натуры привёл наших героев в замешательство, и они поспешили обойти злосчастное место. Но через минуту наткнулись на другой труп, потом на третий, четвёртый... Когда вышли к упомянутой речке, увидели на берегах её и на лугах ещё множество распростёртых тел. И тогда поняли, что набрели на поле боя, судя по всему, кавалерийского: на протяжении полутора-двух вёрст то тут, то там встречали и человеческие останки, и побитых картечью лошадей.
Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: в этом печальном месте уже основательно потрудились мародёры — вроде тех, что тащились сейчас за обозом, — а может, и здешние мужики приложили руку. Кое-что, однако, на трупах осталось — испачканное кровью бельё, порванные мундиры. По цвету мундиров определили, что лежат здесь и россияне, и солдаты французской армии. И если бы не это тягостное зрелище, подавляющее всякие чувства, можно было бы изумиться тому, что ни русские, ни французы не вменили себе в обязанность предать тела погибших земле. Потрясённый, Александр Модестович подумал, что содеянное зло не может проходить бесследно, содеянное зло возвращается, иной раз даже не затрудняя себя сменить маску, — возвращается к своему родителю в его же обличье; сегодня бросили кого-то, не похоронили они, завтра бросят, не погребут их. Однако бессмысленно было бы ожидать уважения к праху людей, занятых истреблением друг друга. Александр Модестович припомнил: на тракте не раз говорилось, что такие поля, поля смерти, можно встретить сейчас повсюду от Немана до Днепра. Но он не верил этим слухам. Точнее, они не укладывались у него в голове, в его человеколюбивом, расположенном к состраданию разуме; они мыслились ему безумием. Теперь он думал иначе: когда всё вокруг сущее безумие, одно лишнее безумие ничего не меняет; человека, отупевшего от всеобщего безрассудства, уже вряд ли возможно ошеломить одной из граней этого безрассудства. И ещё Александру Модестовичу открылось на поле брани следующее: пару дней назад, и даже сегодня утром, он полагал, что российские войска бегут — панически и постыдно, забыв об уязвлённой гордости, не внимая голосу попранной чести, бегут, одолеваемые одним желанием, одной мечтой — убежать подальше и спрятаться где-нибудь в смоленских кущах или за подмосковными холмами и выжидать, пока француз, утомившись, сам не откажется продолжать поход. Но в действительности всё оказалось не так... Русские отступали, отступали трудно, с беспрестанными кровопролитными боями, где-то терпя поражения, а где-то побеждая и нанося противнику урон, отступали с достоинством людей, знававших и лучшие времена и не забывших ещё, как пели в их честь фанфары и как под копыта коней их летели лавровые венки...
Александр Модестович ещё не решил, где им скоротать остаток дня и провести ночь, но намеревался непременно вернуться поутру на тракт, чтобы продолжить путь уже в другой компании — не столь бесчестной и злобной, ибо надеялся, что и среди врагов могут быть люди не совсем безнравственные. Поэтому в планы его не входило слишком удаляться от факта. Убедившись, что преследования нет, он начал подумывать об отдыхе. Выехали на просёлок, что вёл к соседнему поместью. Старинные липы обступали здесь дорогу с обеих сторон и дарили наших путников благодатной сенью. И те, наслаждаясь прохладой, согласились друг с другом: лучшего места для отдыха и придумать невозможно. Однако опасались останавливаться при дороге. Рядом с липовой аллеей присмотрели густой ивняк, что разросся по бережкам пересохшего в это лето ручья. Там и облюбовали потаённый уголок.
Но, по всему видать, Фортуне угодно было ещё раз представить нашим героям тех, от кого они, казалось, благополучно бежали, — и представить в деле, сколь бесчеловечном, столь и позорном. Не успели Александр Модестович с Черевичником расседлать лошадей и расположиться в тени ив, как услышали приближающийся с аллеи конский топот, затем крики, выстрелы, громкое щёлканье бича. Выглянув из укрытия, увидели не менее дюжины своих недавних попутчиков (к коим прозвание «висельник» так и липнет), преследующих какой-то экипаж с громоздким, но, вероятно, очень вместительным дощатым, без обивки кузовом. Колымага эта была столь тяжела, что и четвёрке гнедых оказалось не под силу умчать её от преследователей... Ещё мгновение-другое, и мародёрам удалось подстрелить одну из лошадей. Та, обрывая постромки, перевернулась через голову и упала как раз под передние колёса. В следующую секунду колымага, на полном ходу завалившаяся на бок, скрылась в облаке пыли. Тройка освободившихся коней понеслась прочь — очертя голову, волоча за собой переломленное у основания дышло. Крики, ржание, выстрелы — всё перемешалось. А когда пыль осела, мародёры, сноровисто обтяпавшие дельце, были уже далеко.